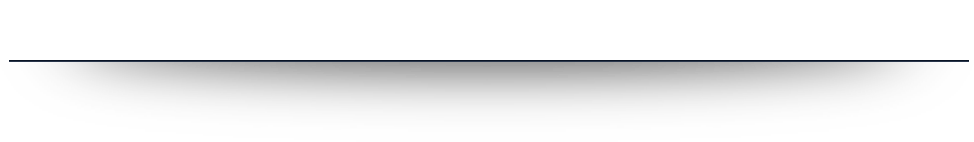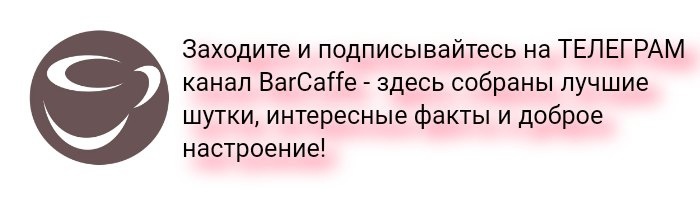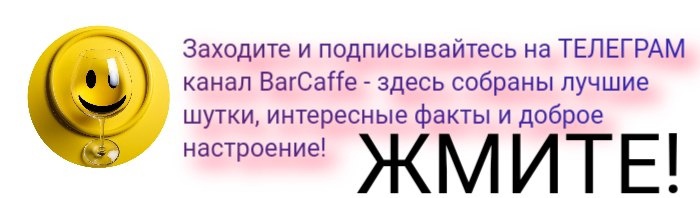Окопная болезнь солдата Некрасова
![]()
– Смеяться тут не над чем, – обиженно сказал Некрасов, – тут смех плохой. У меня, ежели хочешь знать, окопная болезнь, вот что.
– Первый раз слышу! Это что же такое за штука? – с искренним изумлением спросил Лопахин. – Что-нибудь такое… этакое?..
Некрасов досадно поморщился.
– Да нет, это вовсе не то, об чем вы по глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая.
– Моз-го-вая? – разочарованно протянул Лопахин. – Чепуха! У тебя такой болезни быть не может, не на чем ей обосноваться, почвы для нее нет… почвы!
– Какая она из себя? Говори, чего тянешь! – нетерпеливо прервал снедаемый любопытством Копытовский.
Некрасов пропустил мимо ушей язвительное замечание Лопахина, долго водил сломанной веточкой по песку, по голенищам своих старых изношенных кирзовых сапог, потом нехотя заговорил:
– Ну, так вот тогда первый раз со мной это дело случилось… Полроты в одной избе набилось, спали и валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарища, надышали – сил нет! Просыпаюсь я по мелкой нужде, встал, и возомнилось мне, будто я в землянке и, чтобы выйти, надо по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню, а полез на печку… А на печке ветхая старуха спала. Ей, этой старухе, лет девяносто или сто было, она от старости уже вся мохом взялась…
Копытовский вдруг как-то странно икнул, побагровел до синевы, задыхаясь, закрыл лицо ладонями. Он смотрел на Некрасова в щелку между пальцами одним налитым слезою глазом и молча трясся от сдерживаемого смеха. Некрасов осекся на полуслове, нахмурился. Лопахин, свирепо шевеля губами, незаметно для Некрасова показал Копытовскому узловатый, побелевший в суставах кулак, сказал:
– Давай дальше, Некрасов, давай, не стесняйся, тут, кроме одного дурака, все понятливые.
Отвернувшись в сторону, смешливый Копытовский урчал, хрипел и тоненько взвизгивал, стараясь всеми силами подавить бешеный приступ хохота, потом притворно закашлялся. Некрасов выждал, пока Копытовский откашляется, сохраняя на помрачневшем лице прежнюю серьезность, продолжал:
– Понятное дело, что эта старуха сдуру возомнила… Я стою на приступке печи, а она, божья старушка, рухлядь этакая шелудивая, спросонок да с испугу, конечно, разволновалась и этак жалостно говорит: “Кормилец мой, ты что же это удумал, проклятый сын?” А сама меня валенком в морду тычет. По старости лет эта бубновая краля даже на горячей печке в валенках и в шубе спала. И смех и грех, ей-богу! Ну, тут, как она меня валенком по носу достала раза два, я опамятовался и поспешно говорю ей: “Бабушка, не шуми, ради бога, и перестань ногами махать, а то, не ровен час, они у тебя при такой старости отвяжутся. Ведь это я спросонок нечаянно подумал, что из землянки наверх лезу, потому и забухался к тебе. Извиняюсь, говорю, бабушка, что потревожил тебя, но только ты за свою невинность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми!” С тем и слез с приступка, со сна меня покачивает, как с похмелья, а у самого уши огнем горят. “Мать честная, думаю, что же это такое со мной получилось? А ежели кто-нибудь из ребят слыхал наш с бабушкой разговор, тогда что? Они же меня через эту старую дуру живьем в могилу уложат своими насмешками!” Не успел подумать, а меня кто-то за ногу хватает. Возле печки спал майор-связист, – это он проснулся, фонарик засветил, строго спрашивает: “Ты чего? В чем дело?” Я ему по форме доложил, как мне поблазнилось, будто я в землянке, и как я нечаянно потревожил старушку. Он и говорит: “Это у тебя, товарищ боец, окопная болезнь. Со мной тоже такая история была на Западном фронте. Дверь – направо, ступай, только смотри, куда-нибудь, на крышу не заберись со своей нуждой, а то свалишься оттуда и шею к черту сломаешь”.
По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора, все спали с усталости без задних ног, и все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображал себя в землянке, или в блиндаже, или в каком-нибудь ином укрытии. Вот ведь пропасть какая: ежели по боевой тревоге подымут, сразу понимаю, что и к чему, а по собственной нужде проснусь – непременно начинаю чудить…

![]()