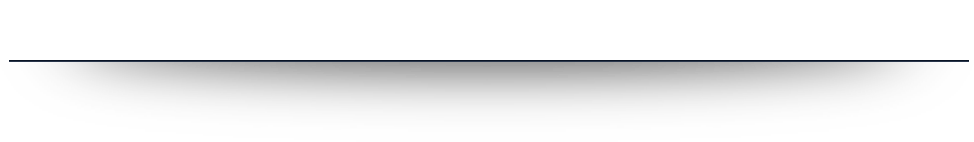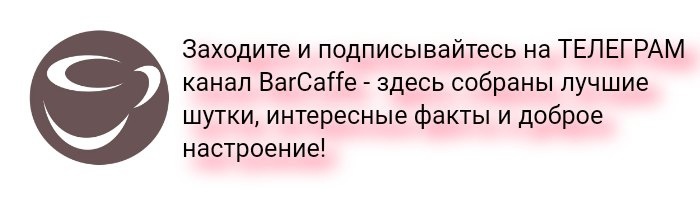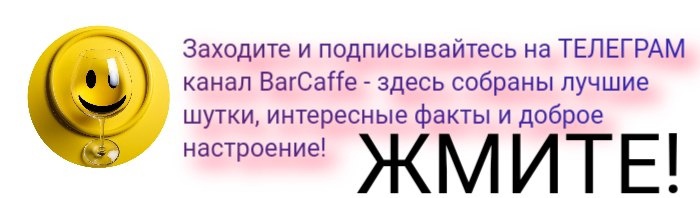![]()
Сонная, летом зарастающая водяной чумой и всякой другой водорослью похмельного цвета, речка Валавуриха в короткую весеннюю водополицу дурела и делалась похожа на колхозного овощевода Парасковьина, который зиму и лето до одурения копался в земле. Но раз в месяц, а то и в два он напивался, пластал на себе рубаху и с осиновым колом гонялся за своей бабой. Баба эта, Парасковья, заслонившая в мужике все, вплоть до фамилии, была злая и хитрая. Она поколачивала мужа в день Восьмого марта и по другим новым праздникам. Но в дни запоя мужа она сопротивления не оказывала, а пряталась: зимой в подпол, летом западала на огороде в жалицу и пересиживала смутное время.
Овощевод Парасковьин для порядка и куражу бил колом по окну, выносил полрамы и ложился спать, совершенно удовлетвореный этими действиями.
У овощевода Парасковьина была дочь, похожая лицом и нравом на отца. Она и в труде пошла по его линии, тоже копалась в колхозной теплице и парниках, выхаживала рассаду капусты, помидоры и огурцы снимала и целиком отдавалась этому занятию, не участвуя ни в каких гулянках и посиделках девичьих.
И все же в одну из весен, когда огурцы в колхозной теплице дали первый цветок, отец обнаружил, что по лику дочери, покрытому, как у монашки, темным платком, тоже будто цвет пошел и походка у нее сделалась тяжеловатой и кошачье-осторожной.
Отец поскорбел лицом и стал думать, каким образом это могло получиться. Все время девка на глазах, занятая важным сельскохозяйственным делом, и вот на тебе — «растет у нее брюхо другое», как поется в одной частушке местного сочинения. «Не от назьма же она раздобрела! От назьма гриб заводится, овощь от назьма прет большая, — размышлял овощевод Парасковьин, — а детей от назьма не бывает… И ветром их тоже не надувает. Тут непременно должен мужик участвовать!»
Придя к такому невеселому умозаключению, овощевод Парасковьин начал перебирать в памяти всех мужиков-односельчан, способных еще сотворить живого человека, и очень скоро наткнулся на него, потому что боеспособный мужик в обезлюдевшем селе Ковырино весь был на виду и в коротком счету — он был один, этот мужик — шофер Кирька Степанидин.
Степанидиным Кирьку именовали потому, что его мать звали Степанидой. Как и Парасковьина-овощевода, всех мужиков в этой деревне кликали только бабьими именами, и потому тут баба от веку была главной фигурой в труде и в жизни. Мудро решив, что с Кирькой — парнем разухабистым и дураковатым — ему ни о чем не дотолковаться, Парасковьин-овощевод подался к самой Степаниде и, поговорив с нею о погоде и космонавтах, мол, на Луну лететь собираются, а в сельпо белой нету уж другую неделю, намекнул, что вот-де осенью Кирька и его дочь Шурка ездили в райцентр за покупками, так дорога-то длинная, а дело молодое и ума большого не надо… Парасковьин-овощевод скованно хохотнул в завершение своих слов, чем и озадачил Степаниду.
Она поглядела на Парасковьина-овощевода пристально и сочувственно заохала: долга, мол, дорога, ох, долга… Покуль до базара доберешься — все яйца переколотишь, ягоды так и не бери на продажу — кашу привезешь, мол, вот поселил Бог людей которых поближе к городу, так они всегда с копейкой, с базара живут — припеваючи…
Степанида сделала вид, что она совсем не понимает мужика, и свела все дело к тому, будто овощевод Парасковьин хочет занять у нее на пол-литра, а она всячески должна увиливать, ссылаться на трудности жизни и полное безденежье.
Совсем эапасмурнел овощевод Парасковьин: раз уж Степанида начала прикидываться и Ваньку валять, ему не подобрать ключа к ее сложной и закоулистой душе. Не зря же кум Замятин подался в заречную деревню на жительство к другой бабе, махнув рукой на сына Кирьку, на Степаниду и на всю лавку с товаром, как именовал он хозяйство, нажитое долгими трудами и заботами.
Вздохнул Парасковьин-овощевод глубоко, взял шапку, отправился в сельпо, напился, чтобы взбодрить угнетенную душу и на время забыться. Но забыться ему не удалось, потому что Шурка была у него единственным дитем, он ее любил и жалел.
Пошел Парасковьин-овощевод бродить по земле и отыскивать Кирьку-обидчика. И нашел возле правления колхоза — уже в другом селе нашел. Поздоровался чин чином, вытащил бутылку напитка «Дар осени» — другого в сельпо не оказалось — и пригласил распить напиток совместно, тут же, на крыле колхозного газика.
Кирька неожиданно ударился в амбицию, заявил, что он за рулем не пьет, тем более под окнами правления, и что любое вино, хоть «Дар осени», хоть какое, — все равно алкоголь, и потерять из-за него шоферские права можно запросто, потому что дыхнуть могут заставить в райцентре, куда он важного начальника повезет.
Был Кирька в кожаной куртке, в больших, чуть не до локтей, перчатках — краги называются. Чуб у него из-под каракулевой шапки торчал, в районной парикмахерской завитый, а во рту у него зуб желтый красиво блестел.
Поставил мысленно рядом с Кирькой дочь свою Парасковьин-овощевод, безответную, тихую с детства, чего-то мастерящую, копающуюся в парниках вроде мышки-землеройки, поставил и загоревал еще больше, а загоревавши, поинтересовался:
— Начит, не пьешь за рулем?
— Не пью! — отрезал Кирька, и глаза свои спрятал нахальные, забегал ими, замельтешил.
— Начит, алкоголь? — воинственно наступал Парасковьин-овощевод.
— Алкоголь! — подтвердил Кирька.
— Начит, брезгуешь моим угощением?
— Что вы, гражданин Парасковьин, привязались? — возвысил голос Кирька, заметив, что из правления выходит председатель колхоза, провожая к машине уполномоченного райзаготконторы. — Сказано вам — на работе я, за рулем, а это не лучок в парниках щипать…
Если бы Кирька не ухмылялся вызывающе при этом, не заблестел бы нагло зубом, не назвал бы его, как милиционер, гражданином — все, может быть, и обошлось бы мирно. Однако зуб блескучий, слова «вы, гражданин», особенно «вы», совсем выбили Парасковьина-овощевода из равновесия. Это он-то, Парасковьин, гражданин?! Он, которому этот шибко грамотный кавалер крестником приходится, и совсем еще недавно крестный сопли ему подтирал и как-то с базара привез ему сладкого петуха на палочке, он — гражданин?!
Бац поллитровкой Кирьку по голове — с того шапка долой, и бутылка вдребезги!
На Кирькином же кургузом «газике» повезли связанного овощевода Парасковьина в район, чтобы определить его там куда следует.
Парасковьину-овощеводу все уже было нипочем, и он кричал, что ему очень даже нравится ехать вместе с начальством, что он хоть попутешествует, будто чин какой, на мягком сиденье, а то всю жизнь на конях да на попуткых машинах до города мотался, и надоела ему такая жизнь.
Уполномоченный сохранял выдержку и в разговор с пьяным человеком не вступал. Кирька вертел баранку, штурмуя дорожные хляби, и что-то угрожающе выстанывал сквозь стиснутые зубы. Травмы никакой ему Парасковьин-овощевод не нанес — спасла Кирьку кучерявая шапка. Однако в голове гудело, наплывал на левый Кирькин глаз синяк, а главное — облило его «Даром осени», и по всей машине плыл запах сена, свеклой пареной пахло и еще вроде бы назьмом, сгоревшим на грядах, наносило. Сомневался в напитке Кирька — как бы не скоробилась от него кожаная куртка, не вылез бы волос на шапке.
Кирька крутил баранку резко, нетерпеливо, газовал шибко, чтобы скорее примчаться в райцентр, высадить уполномоченного, а потом завернуть за угол, напинать Парасковьина-овощевода, не глядя на то, что он крестный, и, насладившись местью, сдать его в милицию, паразита такого.
Парасковьин-овощевод не совсем осознавал, какая гроза над ним нависла. Упав рылом на переднее сиденье, он вдохновенно доказывал уполномоченному, какой он есть трудовой человек, почему и имеет полное право выпить. Уполномоченный долго крепился, но не вытерпел, обернулся и сказал Парасковьину-овощеводу:
— Хулиган ты, а не трудовой человек!
— Я-а, фулига-ан?! — обиделся Парасковьин-овощевод. — Сам ты фулиган! Я на фронте ранетый, медаль у меня «За оборону Севастополя» лежит в ящике. — Парасковьин-овощевод попытался вспомнить о себе еще что-нибудь положительное и вспомнил: — Мне грамота за огурцы дадена!..
— Погоди, погоди, — прервал Парасковьина-овощевода Кирька. — Дадут тебе еще одну грамоту. До-олгую, аж рублей на тридцать с прицепом…
— Молчи, варнак, молчи! — рванулся Парасковьин-овощевод, готовый растерзать Кирьку, но руки у него были связаны и весь он был спеленат вожжами, как ребенок. От резких усилий он свалился с сиденья на пол машины. Возился, пытаясь влезть обратно. — Кот колхозный! Ты что с Шуркой с моей сделал? Ты хто такой? Почему девок пикорчишь безвозмездно?
— Не пришьешь нахаловку, не пришьешь! — злорадно ответствовал Кирька. — Я свои печати-штампеля не ставлю тама. Не докажешь!..
— А вот докажу! Вот докажу! Я в райсовет пойду, к партейным людям и разобъясню им все как есть буквально-досконально!
Фыркнул презрительно Кирька: дурак, мол, ты, дядя, — и прибавил газу так, что забрякала голова Парасковьина-овощевода об пол. Он еще покричал маленько, погрозил, а потом курить попросил. Уполномоченный достал папиросу «Беломорканал», прижег ее и сунул Парасковьину-овощеводу в рот. Тот умилился поступком уполномоченного, сказал, чтобы на него не обижались, и покурив, уснул на полу между сиденьями.
Пятнадцать суток Парасковьину-овощеводу дали без лишних разговоров и суеты. Он четыре дня скреб тротуары возле райисполкома и долбил помойку, что ледяным айсбергом плыла по вытаявшему пустырю сзади столовой и начинала вонять. В труде он проявил прилежание, режима не нарушал и освобожден был досрочно по настоянию председателя колхоза, потому как Шура скрылась из села и овощное дело в ковыринской бригаде начало приходить в запустение и упадок. Председатель же сам и штраф выплатил в счет будущих заработков Парасковьина-овощевода.
Вернулся в Ковырино овощевод Парасковьин темной ночью, истопил баню, помылся, сменил одежонку и скрылся в теплицу от жены, которая то и дело налетала на него с ухватом и срамила так, что уж никакого терпения больше не хватало.
В теплице Парасковьин-овощевод дневал и ночевал, домой почти не показывался, ссылаясь на занятость да большой объем работы. Дел у него в весеннюю пору и всегда-то было много, а тут еще и помощника не стало — убежала Шурка из села от стыда и позора, от грозной матери спряталась.
В душевной смуте, в трудовых заботах и тревоге прожил овощевод Парасковьин неделю-другую. Село Ковырино устало обсуждать поступок овощевода и дочери его, нагулявшей «брюхо другое». Началась пахота в огородах, и пашни к севу приспевали, а давно известно, что делу — время, потехе — час.
Вот тогда-то, переждав деревенские пересуды и пережив лютую вспышку буйства и отчуждения жены своей Парасковьи, овощевод Парасковьин купил в сельпо конверт с фестивальным цветочком и послал письмо дочери в заречное село, где жила Шуркина бабушка, то есть его, Парасковьина-овощевода, мать, — дальше нее, как рассудил отец, Шурке с ее характером и сноровкой не уйти.
«Письмо опущено 20 апреля из села Ковырино, — писал овощевод Парасковьин. — Дорогая дочь Александра! Пишет тебе родной твой отец, Данила Евсеич Замаракин, да еще мать твоя, Парасковья Архиповна Замаракина, как есть ты у нас одна дочь и писать больше некому нам, горемышным, то вертайся домой. Мать плачет об тебе, и я тоже скоро заплачу, а мне нельзя, как есть я фронтовик бывший и медаль имею „За оборону Севастополя“, да и работы шибко много. Об ребенке не думай, прокормим как-нибудь. Еще из рук ничего не выпадает, и ноги ходят. А какая баба чево вякнет, так наплевай. Нонче не старое время. Нонче мать-одиночка конституцией окружона и которым даже деньги дают за это. Так что не сумлевайся в себе и нас не бросай. Мы скоро уже старые сделаемся и трудицца не сможем, а кто нас доглядит и докормит, как не родная дочь. Низко кланяюся мамаше Аксинье Ивановне, а еще поклон передай куму Замятину и его супруге Евдокии Федоровне.
Остаемся пока живы-здоровы, чего и вам желаем. Замаракины — родители твои Данила Евсеич и мать Парасковья Архиповна, которая уже все окошки проглядела и глаза выплакала».
Письмо это шло кружным путем: сначала в райцентр, где на него штемпель поставили, а потом уж со штемпелем оно обратно в село Ковырино попало, потому что здесь ходил паром на ту сторону Валавурихи, точнее, должен был ходить, но его не наладили, оттого что лед не весь прошел по реке.
Потом лед прошел все-таки, и Валавуриха стала полнеть и пучиться, вода затопила низинные покосы и лес по берегу, после добралась до огородов и бань.
Паром пустили по большой воде — поджимала посевная, да и почтальон нервничал, таскаясь с сумкой по берегу, говорил, что служба его не может ждать, когда вода спадет.
Письмо отправилось в сумке на другую сторону Валавурихи и через полмесяца со дня отправления благополучно достигло заречного села. Шура, теперь уже молодая мама, вся уревелась, читая письмо, да тут же и домой стала собираться. Укутала ребеночка в тряпицы и старенький полушалок, поклонилась бабушке. Та перекрестила ее, узелок с гостинцами наладила, — и отправилась Шура на переправу.
На паром заехала телега, набухали торговки мешков с картошкой и луком, гусей в корзинах наволокли и всякого разного грузу натащили столько, что низко сел паром и, как пошел он по реке, захлестывать его стало, трос до звона натянулся. На середине реки паром застрял, огрузать начал. Все люди бросились к тросу, чтобы помочь руками скорее паром двигать. Паром скособочился, покатилась телега, ударила в ноги лошадь, та рванулась на людей, сшибла кого-то, падая. Поднялись крики, забились гуси в корзинах и тоже заорали. Паром качнулся, медленно на ребро стал крениться и, оборвав трос, медленно перевернулся.
С парома спаслась лишь Шура. Как только паром начал тонуть, она прижала к себе ребеночка и, зажмурившись, бросилась в воду. Остальных накрыло паромом, побило телегой и мешками.
У берега Шуру подхватили, выволокли на траву и попытались разнять руки, но не могли разнять — так крепко она притиснула к себе ребенка. Но в полушалке закхекало, зачихало, и Шура, услышав живые звуки, тут же потеряла память.
С нею отваживались бабы, прибежала, на всю деревню заголосила Парасковья, потом появился отец и, суетясь по берегу, бледными губами твердил:
— Она же плавать не умеет! Она же воды боится!..
— Мать! — сказал милиционер, примчавшийся на мотоцикле к месту происшествия, и грустно посмотрел в мутные воды Валавурихи, где болтались концы оборванного троса, панически орал, плавая по реке, вырвавшийся каким-то чудом из корзины единственный гусь, вдали, выброшенный на обмысок, темнел разбитый паром.
От того и от другого берега уже отходили лодки с людьми и кружили они по реке. Голосили тот и другой берег на всю округу по утопленникам. Людей все прибавлялось и прибавлялось. Шуру привели в сознание, мать с трудом перенесла ее и усадила на доски, лежавшие на берегу, и все пыталась выдернуть ребенка:
— Да что ты, доченька, дай ребеночка, дай! Мокрай он, мокрай…
Шура смотрела на нее мутными, остановившимися глазами и ребенка не отдавала. Мать испугалась и запричитала:
— Ой, тронулось мое дитятко умом, сдвинулось, родимое!
Отец укутывал Шуру в свою телогрейку, пытался поднять и увести домой. Она же ровно бы задеревенела телом, не шевелилась, не моргала глазами.
И отец тоже испугался. Но тут ребенок заревел, как придавленный грач, и Шура встрепенулась, замычала, дрожь по ней пошла сильная, изо рта фонтаном хлестанула мутная вода.
Мучительно билась и стонала Шура, катая голову по доскам, но ребенка из рук не выпускала.
В это время подпрыгивая на камнях, бревнах и кочках, рявкая гудком, скатился с яра колхозный «газик» и чуть было в воду не угодил. Из «газика» выскочил Кирька. На ходу снимая кожаную куртку, он ругался.
— Охломоны! — кричал он. — Дураки необразованные! Надо же искусственное дыхание делать!.. — И осекся, встретившись глазами с Шурой. — Жива! Жива-а-а! — заблажил он на весь берег. — Шурка! Да как же!..
Так глупо кричал, удивлялся и ахал Кирька, а сам тянул из рук Шуры ребеночка. И, странное дело, она расслабила руки, разомкнула их, и Кирька мигом завернул ребеночка в свою шикарную кожаную куртку на синтетическом меху, подхватил Шуру левой рукой, ребеночка правой к груди притиснул и поспешил на яр, забыв, что у него техника с собой, машина.
— Мама! — еще в заулке орал Кирька. — Затопляй печь! На печку, милые вы мои. Отогрею спиртягой, ототру!.. А еще говорят, Бога нет, а?! Да хоть ты мне сто антирелигиозных лекций теперь давай — не поверю!.. Все потопли, а Шурка плавать не умеет — и живая, а!
— Мать она, — сказал Данила Евсееич и подхватил с другого боку свою дочь, несильно, однако же настойчиво направляя все общество в свой дом.
— Печь у нас и своя топлена, — одышливо заявила спешившая сзади Парасковья Архиповна. — Неча по людям шляться!
— Да, топлёная, — подтвердил Данила Евсеич, — и вообще давай сюда ребенка. Я его сам понесу! — Он подождал, не скажет ли чего Шура, но та едва живая была, ноги у нее волочились, и все била ее крупная дрожь, стучали зубы.
Данила Евсеич заторопился открывать дверь в избу, и, когда в горнице Парасковья принялась спешно сдирать с дочери мокрую одежду, подвывая при этом, он сурово прикрикнул на оробевшего Кирьку:
— Чего пялишься? Выдь отседова, покурим на улке!
![]()