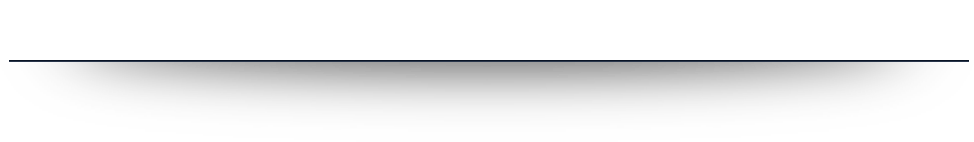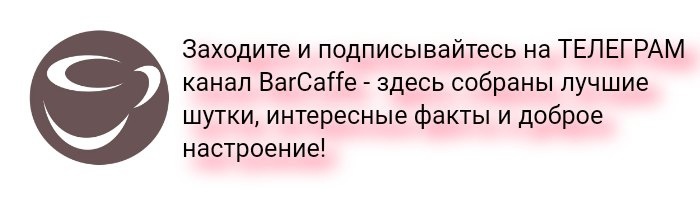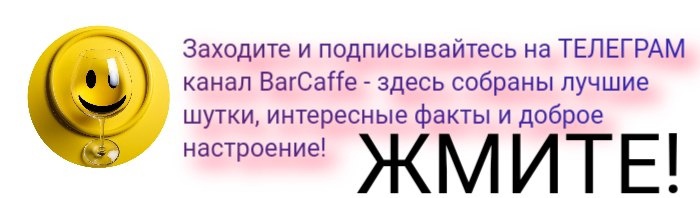![]()
В саду возле аптеки, за столиком, ножки которого врыты прямо в землю, пьют боржом московский адвокат Макаров, приехавший в отпуск на родину, и его сверстник и давний приятель, доктор сельской больницы Дятлов.
Солнце приближается к полудню, синеватый зной все больше заволакивает поля и рощи, заполняет лога и овраги на всем видимом пространстве. Над клином овса за конопляником вскидывается жаворонок, позвенит немного и, словно не выдержав духоты, камнем падает вниз. По дороге за оградой порой прошумит грузовик, протащит облако горячей пыли, разгонит кур и на время затихнет у колхозного двора. В общем же на селе душно и тихо; взрослые в поле, ребятишки убежали в луга и на речку.
Самым разумным для доктора и адвоката было бы последовать их примеру, но они спорят… Спорят они всегда, когда встречаются, — с детских лет и обо всем на свете.
Сейчас доктор доказывает адвокату, что существующая законность, как бы она ни была совершенна, в некоторых случаях все же не в состоянии защитить человека от подловатых и, в сущности, беззаконных действий его ближнего.
— Поехал! — иронизирует адвокат. — Загремел словесами… Да ведь это все равно что утверждать, будто в организме человека есть места, недоступные ножу хирурга. А таких мест, насколько я знаю, нету, по крайней мере для современной медицины…
— Есть!
— Очевидно, по вашему сельскому масштабу. Но вообще-то…
— Вообще есть!
— Ну уж и не знаю! — не сдается адвокат. — В мозгу копаются, как ложкой в каше, в глаз проникают, сердце сшивают…
— Душа! — выпаливает доктор. — Душа, и нет туда ни вам, ни нам свободного хода… Поди-ка раскуси, что он, человек-то, в самом себе носит! Зная его жизнь, минута за минутой, зная устройство и функции каждой клетки, невозможно предугадать, что он сделает или скажет в следующую минуту… А у иного ближнего она, душа-то, не то чтобы темный лес, а прямо чаща дремучая, совы в ней кричат и этакие, знаешь ли, болотца хлюпают…
— Не пугай средь бела дня! — смеется адвокат. — Не страшно… Я по своей работе всякого насмотрелся и наслушался. Прошлое иногда в людях работает, живого мертвый пытается хватать…
— А всего не постиг!
— Не знаю… Без примера спор этот пустой… Зачем сеять воду через сито? Вода все равно будет…
— Найдется и пример, — обещает доктор. — Вот повремени малость — и найдется…
Доктор направляется на обход больных, а Макаров — домой, полежать и подремать…
Просыпается он оттого, что на крыльце разговаривают. Солнце уже сползло за вершины большого колхозного сада напротив, и на пыльной дороге лежит покрывало, сотканное из желтых и серых пятен; колышутся ветки, колышется, движется и покрывало на дороге.
Шелестит листва в палисаднике, жужжат пчелы, и сквозь этот шелест и жужжание прорезаются два голоса: тихий, примиряющий — матери Макарова — и басовито окающий, возбужденный, как будто странно и давно знакомый.
Макаров некоторое время вспоминает и наконец узнает голос Черноярова, их бывшего соседа, мрачноватого на вид мужика, который часто без толку кричал на своих чумазых, и вечно оборванных ребятишек, кричал и любил их трогательной любовью.
Когда они стали учиться, он вечерами поочередно заставлял их вслух читать книжки и молча плакал, если в романах хороший человек бывал обижен плохим или терпел бедствие.
Самое интересное из книг он потом пересказывал на завалинке мужикам, но уже так, словно сам был знаком и с Тарасом Бульбой и с Катюшей Масловой. «Заходим мы на усадьбу, — импровизировал он, — хотим сказать барину, что буря лес повалила, так не продаст ли он нам дровец по дешевке, а он, Обломов-то, спит… Утром заходим — спит, днем заходим — спит опять же!»
Для того чтобы рассказы выглядели правдоподобно, приходилось Черноярову выдумывать небылицы о каких-то своих поездках на Украину, в ближние и дальние города и села. И — странное дело — мужики, с которыми он всю жизнь прожил бок о бок, не насмехались и не укоряли его за это буйство фантазии и охотно слушали его диковинные повествования.
Из-за этой чувствительности и способности увлекаться всякими выдумками хозяин из Черноярова получился неважный, всё, что он ни затевал — а чего он только не затевал! — шло, как говорится, наперекос и крест-накрест, ни одна затея до конца не доводилась.
К тому же сама природа, казалось, находилась в состоянии постоянной вражды и войны с ним: молния поджигала его ригу, когда туда уже был свезен хлеб нового урожая, буря опрокидывала стога сена; в овраг, на краю которого он жил, весной обваливалась половина двора…
Одним из самых первых вступил он в колхоз, и через неделю кулаки подожгли его хату — не потому, что он был самым активным, а потому, что хата стояла на отшибе, собак во дворе не было и поджигать ее было всего удобнее и безопаснее…
— Спит, говоришь? — гудит на крыльце Чернояров.
— Спит… Сам посуди, отдохнуть человек приехал, в городе-то небось намаялся…
— Разбуди.
— Жалко, Афанасьевич… Будешь голову морочить своей заварухой!
— Буду, — не отрицает Чернояров. — Мне доктор объяснил, что Степан твой все законы насквозь знает… С тобой бы посоветовался, если б толк был, да что мы с тобой? О себе самих настоящего понятия не имеем, в пятьдесят лет расписываться учились… Разбуди, говорю!
Адвокат выходит сам. Чернояров сидит на лавке крыльца, поставив меж колен суковатую палку. Адвокат знает, что ему уже за семьдесят и по возрасту его вполне можно назвать стариком, но это как-то не идет к нему: он высок и жилист, волосы его черны, и в черных же, глубоко посаженных глазах поблескивают беспокойные огоньки. Усы и борода бриты, лицо слегка скуластое и темное, словно вырезанное из старой груши, одет в дешевый, но опрятный серый костюм, на ногах грубые рыжие башмаки на толстой подошве. Они велики и тяжелы, поблескивают медными крючками и зашнурованы не шнурками, а ремешками — башмаки на богатырскую ногу!
— Заматерел и ты, Петрович, — здороваясь, басит Чернояров. — Встретил бы где, под присягой не признал бы! А мои трое на войне остались — и Колька, и Серега, и Мишка…
«По крайней мере прямодушен, с жалобы начинает, — думает адвокат, вспоминая при этом, как однажды, давным-давно, отхлестал его Чернояров вожжами в малиннике. — Пенсию, наверное, бюрократы какие-нибудь зажимают, а в колхозе тоже работник не ахти. Заурядный случай волокиты и невнимания к человеку…»
Он смотрит выжидательно на Черноярова, и тот, выдержав для приличия паузу, продолжает:
— Прошу извинить, что помешал отдохнуть… Однако же положение у меня такое, что погибаю и спасения ниоткуда нету.
— А правление колхоза что же? — спрашивает адвокат, уверенный, что сразу разгадал суть дела.
— Что правление? — недоумевает Чернояров.
— Ну, работу по силам дать, обеспечение, как по закону о престарелых положено. Прокурорский надзор, надеюсь, у вас есть…
— Я не престарелый! — с оттенком обиды поправляет Чернояров, выпрямляясь на лавке. — Я пожилой… Правление же тут ни при чем, меня ставили инспектором по качеству. Сил тех, конечно, нет, молодежь тоже слушается не всегда, наперекор ставить любит, но с должностью справлялся…
— Трудодень мал, что ли?
— И трудодень оформляется тоже… Да я и так обеспеченный: мой четвертый сын, Дмитрий, — ты его и знаешь мало, — он теперь полковник и денег присылает в достатке… Сроду у меня таких денег и не бывало! Одетый хожу, сытый, домишко свой поставил… Но при всем том погибаю!
— Так в чем же дело?
Чернояров придвигает лавку, наклоняется к адвокату и совсем тихо, словно с опаской произносит:
— Ведьма!
— Ведьма?
— Именно что… От нее и жизни решаюсь.
— Чудеса! — смеется адвокат. — Сколько я прожил в нашем селе и сколько по свету ходил, не видел ни разу…
— Не встречал прежде и я, — говорит Чернояров. — Болтать болтали, а не встречал. Теперь же завелась!
— Кто ж это?
— Старуха моя…
И Чернояров, вздыхая, со всеми подробностями рассказывает, как остался он после войны один-одинешенек: первая жена погибла в толпе, которую обстреляли самолеты под Брянском, трое сыновей были убиты на войне, а о четвертом не было вестей. Хату подожгли каратели, подозревая, что он держит связь с партизанами.
После войны поселился он у соседей, работал в колхозе, по ночам караулил копны в поле, потому что даже в эту трудную пору, когда в иной семье нечем было детей накормить, находились жулики и мерзавцы, которые не прочь были погреть руки на чужом добре.
В сорок девятом году колхоз, оправившийся от прорех в хозяйстве, помог ему построить домик, тогда же нашелся и стал посылать деньги сын Дмитрий.
Поселился Чернояров в новой хате, обрел достаток, а жить стало чуть ли не хуже: обед сварить, постирать некому, в длинные осенние ночи, когда по окнам хлюпает дождь и в плетнях свистит ветер, в пустом доме — как в гробу… Мысли в голову лезут нехорошие, сумрачные…
Тогда-то и порешил он жениться на пятидесятипятилетней женщине, в то время одинокой. Первые года полтора они еще кое-как ладили, а затем начались ссоры. Приехал из города и поселился рядом сын старухи, но легче не стало: теперь дым коромыслом стоит и у Черноярова и у сына, служащего кооперации, — злая баба успевает наводить смуту на два дома.
— Для чего же вам ссориться? — недоумевает адвокат. — Сыты, одеты, в тепле… И добро б еще молодые были, а то кровь уже и поостыла-то!
— То-то и оно… Я же говорю — ведьма.
— На метле она летает, что ли? Ну и пусть себе! Может, рекорд какой зарегистрирует…
— Эх, Степан Петрович, какие тут шутки! Никуда она не летает, а просто выродок и обломок… Потому и ведьмой называю, что другого слова не подберу.
— Что ж она все-таки делает? — недоумевает адвокат.
— Да все что угодно… К примеру, не хватает у меня в приусадебном участке сотки до нормы — так уж получилось. Ну что такое для меня сотка? Тьфу — и больше ничего!.. Так она с правлением колхоза судиться вздумала! Людям смех и потеха, а я недели две из хаты от сраму не выходил…
Участки наши с соседом плетнем не разгорожены. И что же она, злодейка, умудрила? На самой меже тыквы насадила видимо-невидимо — семечки, известно, копейки стоят… И полезла эта тыква к соседу в огурцы и картошку, как нечистая сила, цветет там и размножается, у нее, у тыквы, разумения нет, ей все равно… Осенью же моя старуха соседа и обвиняет, что он плети тыквенные-то к себе перетаскивает и тыкву снимает. Судом и прокурором грозила. Соседка со мной и кланяться перестала, сосед хоть и сочувствует, но в душе тоже, наверное, сомнение имеет, потому что ведьма эта, старуха-то, — мне жена, половина, как говорят…
С работы в колхозе опять-таки меня сняла… Сама сняла! Трудодень маловат был прежде, так она пилит и пилит, что я больше одежки рву, чем зарабатываю. Есть, бывало, спокойно не даст, переточила душу и заставила в огороде копаться и хату караулить… И ковыряюсь я с этой проклятой морковкой, елозию на коленках вокруг редиски, как червяк, как гусеница какая… А зайдите в хату, поглядите, что делается! Погода стоит — благодать, а она окна наглухо затворила и шторами занавесила, чтобы от солнца и пыли вещи не портились.
Сумрачно и душно, как в бане. Сидишь и сам себе не веришь, что речка неподалеку течет, луга — не охватишь глазом, в перелесочках птахи поют… А теперь велосипед купила и ездит на нем!
— Это в шестьдесят-то с лишним лет?
— В шестьдесят с лишним… Ничего, хоть и не шибко, а крутит! На велосипеды у нас в колхозе мода, нынче многие покупают — и молодежь, и бригадиры, чтобы в поле ездить, и которые рыбачить любят…
Ну, моя-то злодейка своей физкультурой занимается: морковки два пучка, огурчиков прихватит, яичек — и на базар…
Иные женщины, которые в колхозе работают, тоже попросят — продай, Власьевна! Продает. Отчего не продать? И копейки взимает, известно… Все же, что выручит, на сберегательную книжку кладет. Подпись с трудом ставит, но книжку завела. Деньги любит до умопомрачения, за гривенник в омут кинется — знать будет, что утопнет, но кинется.
В бога верит, а попроси бог кружку воды в жаркий день — она ему подаст, а двугривенный сдерет!
Сын у нее холостой, по соседству живет и в магазине работает, и грызет она его, как волчица, что попользоваться не умеет… Получает с него добровольно, что по закону полагается, но стирать белье на стороне запретила — сама стирает за плату…
«Старая ты, — говорю ей однажды, — буржуйка ты, а ума в тебе и на пятиалтынный не наберется… Вот накопишь ты, наскребешь правдами-неправдами капиталу тысяч двадцать или четвертную, а потом — бац! — грузовик-то тебя и переедет вместе с велосипедом. А наследство кому достанется? Нам с Пашкой, сыном твоим!.. Снесем мы тебя, куда следует, прикопаем, как положено, и устроим загул на все село… Все пропьем и на ветер пустим! Все зеленым дымом изойдет…
Я плясать пойду прямо посреди улицы. Двадцать или больше лет не плясал, а тут пойду: пусть люди видят, что человек я хороший, компанейский, а только угнетенный был… Или на молодой женюсь, ей-богу! Умная не пойдет, умная себя ценит и человека ищет по себе, а дура очень свободно на деньгу позарится…»
Говорю ей так, шучу, значит, а она мне шварк на колени миску горячих щей, только что из печки…
И не ругается, нет, смеется, дьяволица: «Прости, говорит, из рук вывернулось — заслушалась, как ты хорошо говорил!»
Вот у нее какой характер! Главное же, никаких людей терпеть не может, во всякого, кто ни пройди, как в собаку палкой, дрянным словом бросит — тихо так, спокойно, без всякого крику, но бросит. Все кругом у нее жулики и воры, вся разница, что одни пойманные, а другие нет…
Из-за нее ко мне даже приятели-старики перестали заглядывать, к себе тоже никто не зовет: противно им, как я понимаю… Один остаюсь на земле, Степан Петрович, живой среди живых, а словом не с кем перемолвиться и по душам не потолковать, словно уже в могиле черви изгрызли…
Адвокат слушает рассказ Черноярова, чувствуя, что в нем самом поднимается ожесточение против старухи. Ему жалко этого сильного, немного безалаберного, но доброй души человека, затравленного хитрой и жадной бабой.
— Да разведитесь вы с ней, Афанасий Афанасьевич! — сгоряча советует он. — Выставьте ее к чертовой бабушке — и все…
— А дом? — спрашивает Чернояров.
— Что дом?
— Дом-то я ставил, мое добро!
— Ну и что?
— А то, что дом, участок, имущество — все совместное по закону. Куда же мне на старости лет идти? А она тоже не тронется, понимает свои права… И жалко мне: Митины деньги вложены в это дело. Вот и выходит, что завязаны мы одним узелком крепко-накрепко.
— Тогда к сыну поезжайте. Возьмет он?
— Сын-то возьмет, отчего не взять?! Приезжал он, насмотрелся на нашу жизнь и тоже советовал: бросай все — и поедем… Ну а что я там у него делать буду — сидеть сложа руки? К тому же он человек молодой и военный, у него переезды, мне же не по годам это…
Опять-таки тут у меня старики есть, с которыми вместе еще в хороводы бегал, встретиться можно, вспомянуть… Или новые люди, помоложе — на моих глазах росли, — так мне и любопытно, как у них жизнь развивается.
Там же, у сына, что я такое буду? Батька Митрия из колхоза — и больше ничего… Тут я сам по себе, а там — сбоку припека. Да и старуха грозит: посмей, говорит, только куда тронуться, я над тобой такое учиню, что тебе и во сне не приснится. И учинит! Ей, тихонькой ведьме, по прошлым временам бандой командовать, на Супоневском логу проезжих грабить… Боюсь я ее… Боюсь и боюсь!
— Ну, в милицию заявите, прокурору — грозит, мол.
— Советовался… И старуха знает, что советовался. Но мне сказали, что закона она не нарушает — торгует своим, это не запрещается, за посулы же не привлекают, мало чего люди друг другу в горячке не наговорят!
Адвокат морщится и трет лоб, словно его обволакивает липкая паутина. «Вот тебе и душа, — раздраженно думает он. — Здорово подсунул доктор все это, знал, чертов эскулап, что делает!»
На улице все еще весело светит солнце, покачивается на пыльной дороге покрывало из желтых и серых пятен, накатываются с поля могучие запахи трав и нагретой земли, а на душе скверно.
Ему приходит на память, что порой и он в раздражении неоправданно плохо отзывался о знакомых и сослуживцах, был не прочь послушать дрянную сплетню, брюзжал и, случалось, жадничал.
Неужели и он чем-то похож на эту бессмысленно скупую и злую старуху, которую Чернояров упрямо называет ведьмой? Неужели в нем сидят эти проклятые пережитки прошлого, когда из-за денег отравляли жизнь близким и родным, шли на преступление и клеветали на весь род человеческий только для того, чтобы ее пороками оправдать собственные подлости?
Нет, конечно, он воспитан советской властью, иначе смотрит на вещи. Но в то же время во скольких еще, наверное, сидит по частям эта чертова старуха?
— Вы бы вот что, — уже с меньшей уверенностью советует адвокат, — вы бы, Афанасий Афанасьевич, собрались с этим Пашкой, или как там его, со старухиным сыном, словом, и побеседовали, разъяснили бы, усовестили… Или в крайнем случае пригрозили бы, проучили бы как-нибудь по-семейному. А?
Чернояров опускает голову и сосредоточенно смотрит на носки своих рыжих башмаков, словно впервые догадываясь, что ничего путного ожидать не приходится и что ему здесь не помогут.
Так уже сидел он у прокурора, у председателя колхоза.
Все сочувствовали ему и поругивали старуху, но, хотя она грабила его жизнь, превращала ее в одиночное заключение в четырех душных стенах с закрытыми наглухо и занавешенными окнами, поделать нельзя было ничего.
Только собственная воля могла помочь ему, но сильной воли у него не было. К тому же старуха была хитрее его, она никогда не выходила из себя, не давала вовлечь себя в перебранку, и это с самого начала обеспечивало ей победу…
— Что ее, ведьму-то, учить? — вздыхает он. — Слова всякие для нее — так, шелуха… А пристращать ее нельзя, не боится она никакого страху!
— Тогда уж и не знаю что, — разводит руками адвокат.
За свою долгую практику он в самом деле видел многое, но, оказывается, жизнь еще и его может удивлять неожиданностями и ставить в тупик.
— Понимаю… Радио вот у нас провели, мудреная штука, но я его, радио-то, постигаю, объясни — и постигаю… А старуху не постигаю!.. Думал, ты, Степан Петрович, человек ученый, совет подашь, а выходит, тоже не достиг ты…
Адвокат молчит.
— Значит, терпеть? — спрашивает Чернояров, вставая. — А за что?..
В этот момент на крыльце появляется старуха. Одетая в просторное коричневое платье и повязанная темным платком, расплывшаяся и все еще для своих лет моложавая, она складывает на груди темные руки с толстыми потрескавшимися пальцами и смотрит на адвоката злыми глазками, такими выцветшими и прозрачными, словно сквозь ее лицо просвечивают два маленьких кусочка дымного июльского неба.
Степенно поздоровавшись, она говорит тихим, даже добрым голосом:
— Пошли, Афанасий… Нечего тебе людям мешать, слава богу, свой дом имеется…
Чернояров смотрит на адвоката с последней надеждой, но тот отворачивается, предчувствуя, что может разразиться скандал, в котором он будет посрамлен.
И тогда Чернояров, пропустив вперед старуху и поклонившись, уходит. Он идет, ссутулившись и нехотя волоча по пыли рыжие, на толстой подошве, богатырские башмаки, зашнурованные ремешками, тащится, как человек, потерявший еще одну надежду.
А перед ним мелкими шажками, слегка покачиваясь, семенит старуха в легких спортивных тапочках на белой подошве.
И адвокат думает о том, что может произойти, если как-нибудь нечаянно на эти тапочки наступит своим огромным рыжим башмаком Афанасий Чернояров…
1955
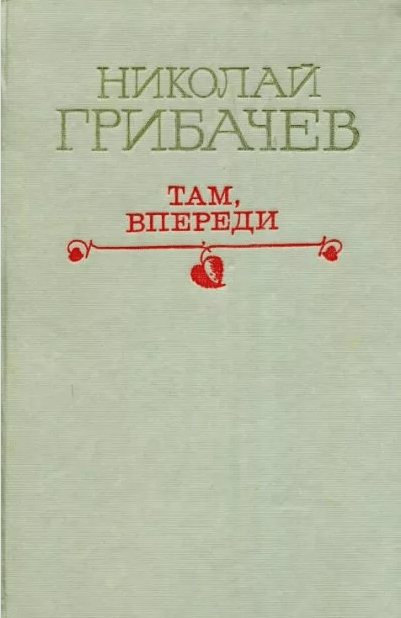
![]()