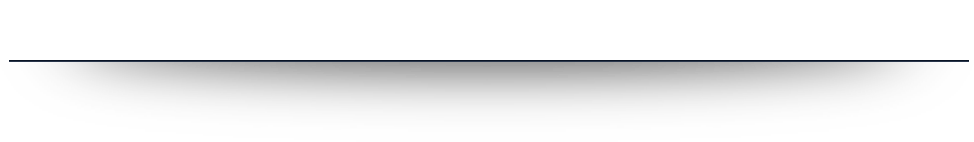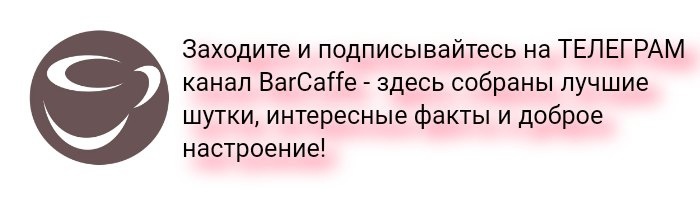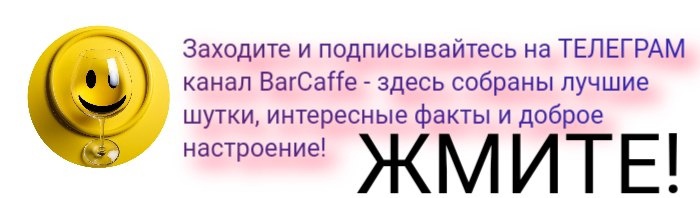![]()
О. X. Лопатиной посвящается…
Бабушка Татьяна Егоровна с утра в большом волнении. Накануне положила кружева в мыльную воду, продержала всю ночь; вставши, как обычно, в семь, прополоскала в чистой воде, успела и просушить и разгладить. И хотя раньше, чем в два пополудни, не ждать радостного визита, а уже к полудню был накрыт стол не новой, но еще прекрасной скатертью, поставлены две чашки, обе завода Попова, и старинный серебряный чайник, на крышке которого немного покривился от времени малый розан с веточкой о трех лепестках. Еще была к прибору гостя – фамильная чайная ложка с полусъеденной позолотой.
На свете, на всем белом свете – а уж на что он велик! – не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от природы было блестящим, – блестело; все, что было старо и поизносилось от времени,- сияло старостью, прилежной штопкой и великой чистотой. И если бы чей зоркий и недобрый глаз отыскал в комнате бабушки одну-единственную соринку, то и эта соринка оказалась бы невинной, ровненькой и чистой.
Кроме поповских чашек с золотой каймой и фигурными ручками, кроме чайника и ложки, оставшихся от семейного сервиза, были в комнате бабушки Татьяны Егоровны еще два предмета на удивленье: рабочий столик и каминные часы.
Рабочий столик, пузатый, с перламутром на крышке и бронзой по скату ножек, стоял не ради красоты. Он был всегда в действии и многих чудес был свидетелем и участником. Трудно сказать, чего не могла скроить, сшить, починить и подштопать бабушкина белая и худенькая рука. И были в столике иголки всякого размера и нитки любого цвета, от грубой шерстяной до тончайшей шелковой. Было в столике столько цветных лоскутков, сколько существует видимых глазу оттенков в радуге, и пуговицы были от самых больших до самых маленьких. Еще было в столике особое отделение для писем, полученных за последний год; тридцать первого декабря эти письма перевязывались тонкой тесьмой и прятались в комод. По правде сказать, писем было немного, с каждым годом меньше. Самое свежее письмо с заграничной маркой получено было на днях – от внука, которого бабушка не видала двадцать два года, а в последний раз видела трехлетним. Увидать же снова должна была именно сегодня в два часа дня. Поэтому и надела бабушка с утра новый и свежий кружевной чепчик.
И еще, как сказано, были у Татьяны Егоровны старинные и драгоценные каминные часы малого размера, великой красоты, с боем трех колокольчиков, с недельным заводом (утром в воскресенье). Колокольчики отбивали час, полчаса и каждую четверть, все по-разному. Звук колокольчика был чист, нежен и словно бы доносился издалека. Как это было устроено – знал только мастер, которого, конечно, давно не было на свете, потому что часам было больше ста лет. И все сто лет часы шли непрерывно, не отставая, не забегая, не уставая отбивать час, половину и четверти.
Двадцать лет назад с часами случилось вот что: стали они отбивать ровно на три часа меньше, чем полагается. Вместо пяти – два, вместо двух – одиннадцать, вместо одиннадцати – восемь и так далее. Однако половины и четверти по-прежнему правильно. Так, бьют они три с четвертью – значит, четверть седьмого, нужно только прибавить три.
И вот тогда, двадцать лет назад, часы были отданы в починку – единственный в их жизни раз. Из починки часы вернулись с правильным боем: бьют полдень – значит, полдень и есть. Неделю шли и били правильно, а через неделю вдруг сразу сбились и в пять часов пробили только раза два. Так пошло и дальше, и больше бабушка их в починку не отдавала.
И действительно, какой смысл в этой починке? Во-первых, часовщик может их испортить; часы старые, кто делал их – неизвестно. А потом – прошло двадцать лет, и бабушка к ним привыкла: бьют пять – значит, восемь, а восемь – значит, одиннадцать. Никакого труда нет накинуть три, тем более что стрелки показывают правильно, для всякого понятно.
Когда часы прозвонили одиннадцать с четвертью, раздался звонок и в передней. И оказалось, что трехлетний Ванечка вытянулся в большого, здорового, приветливого и веселого мужчину и к тому же стал инженером. Когда вошел этот молоденький инженер, внук Татьяны Егоровны, то рабочий столик стал совсем маленьким и от обиды раздул бока, да и самой бабушке пришлось смотреть на внука снизу вверх. Оказался кстати чистый белый платочек, которым бабушка вытерла слезу, – в старости слезы льются и от радости и от горя совсем одинаково.
Чай пили из серебряного чайника с покосившимся розанчиком, а Ванечка помешивал в поповской чашке старинной ложкой с позолотой. Рабочий столик, сначала возревновав, после стоял смирненько. Кружева на бабушкином чепчике сияли чистотой, а сама бабушка улыбалась, слушая рассказы молодого инженера.
Среди многих чудес молодой жизни рассказывал он, как летел на самолете из Лондона в Париж и какие высоченные дома строят сейчас в Америке. И вообще рассказывал про многое, о чем бабушка и читала и слышала, но еще не встречала человека, который видел бы это сам; и к тому же таким человеком оказался собственный ее внук Ванечка. А пройдет неделя – и опять поедет он по разным странам, будет летать по воздуху, прокапывать горы и строить мосты над водопадами. И не страшно за него, потому что он здоров, весел, ест пятую булочку с маслом и пьет большую поповскую чашку в два глотка.
– И все же, Ванечка, береги себя, будь осторожен. Если уж нужно тебе летать на машинах, ты высоко не летай,- не ровен час что-нибудь в машине испортится. Храни тебя Бог от какого несчастия.
Рассказала ему Татьяна Егоровна про то, как он был совсем маленьким и строил из спичечных коробок железную дорогу: видно, так сама судьба сулила. И фотографию его разыскала: сидит этакий бутуз верхом на игрушечной лошади и прямо смотрит большими глазами. И про отца его рассказала, царство ему небесное.
Уже не раз звонили бабушкины часы половину и четверти, но за первым разговором бой их как-то терялся. И вдруг ясно и отчетливо прозвонили они один час. Инженер повернулся к камину и спросил с удивлением:
– Это почему же, бабушка, они так мало бьют?
Бабушка объяснила, что бьют они не совсем правильно, а показывают верно, и что часам этим больше ста лет.
– Надо их починить, бабушка. Ведь это очень просто.
– Что же их чинить, я к ним привыкла, и так знаю.
И опять заговорил о разном, и пока не прозвонили снова далекие колокольчики, что прошло еще полчаса человеческой жизни. И опять молодой инженер повернулся к часам:
– Какой у них бой чудесный! Кажется, будто не здесь, а далеко. Вот в горах так бывает, когда часы бьют в какой-нибудь далекой деревушке. Жаль только, что они испорчены.
Тут бабушка промолчала, хотя и было ей приятно, что ему нравятся ее старинные часы.
Когда инженер заторопился уходить,- опаздывал на важное свидание,- бабушка завернула в белую бумагу, хорошо вымывши, чайную ложку и сунула ему в руку.
– Это что, бабушка?
– А это – положи в карман. Это, милый, память. Этой ложкой твой отец маленьким молочко пил. Ты ее побереги, места займет немного, а иногда посмотришь.
– Бабушка, да зачем же! Ну, спасибо!
И опять пригодился бабушке платочек. На прощанье поцеловала внука и покрестила:
– Может, ты и не веруешь, а уж прости меня, старуху.
И когда он уходил, вдруг опять зазвонили часы, и он, остановившись на пороге, спросил:
– Бабушка, есть у вас бумага или старая газета?
– Есть бумага, Ванечка.
– Дайте мне, бабушка. Мне хочется сделать вам приятное. Вот хорошо, эта подойдет.
Потом быстро подошел к камину, осторожно взял часы и завернул в бумагу:
– Бабушка, вы не беспокойтесь. Я отдам их починить хорошему часовщику, а через два дня вам принесу. Будут бить, сколько нужно, совсем правильно.
– Ванечка, да мне не нужно!
Но он и слышать не хотел. Подошел, поцеловал бабушку в обе щеки и убежал со свертком шумно и весело, как все молодые.
* * *
Бабушка Татьяна Егоровна две ночи спала не особенно хорошо. И не о чем было беспокоиться, и все же было как-то беспокойно. Очень было молчаливо. Привыкла, что бьют в старушечьей ночи далекие звонкие колокольчики,- а вот их нет. Были разные думы, во вторую ночь ей даже приснилось, что большой и толстый часовщик ударил по ее часам тяжелым молотом и – дзынь! – часы рассыпались. Старалась утешить себя:
– Ну, что ж, пускай! Ванечке это приятно.
А на третий день Ванечка забежал на минуту (очень торопился) и занес часы:
– Ну, бабушка, теперь все хорошо. Сейчас я не могу, а перед отъездом забегу к вам посидеть подольше.
Прошумел и исчез.
Стоят часы на прежнем месте, точно и не уходили. Стрелки идут, подходят к одиннадцати с половиной. Бабушка бродит по комнате, ищет последнюю соринку, чтобы смести ее тряпочкой. Соринки нет, а глаза бабушки косятся на минутную стрелку, а ухо ждет.
И вдруг зазвенел колокольчик и часы забили. И как дошли они до восьми ударов и стали бить дальше, все одиннадцать, бабушка грустно улыбнулась и отвернулась. И рабочий ее столик тоже осунулся и стоял теперь понуро.
Так пошла жизнь дальше, и часы били теперь правильно. Бьют пять – значит, пять. А в два часа бьют ровно два. Конечно, удобно.
“Главное – Ванечке приятно,- думала бабушка.- Вот уедет в свои путешествия, может быть, опять полетит в какую страну”.
Но, конечно, путала иногда, особенно под утро, когда сон чуток. Бьют часы пять,- ой, проспала! – а оказывается, и действительно всего-навсего пять часов.
Старый человек иногда загрустит, а отчего – и сам не знает. О чем-нибудь думается. Вот раньше, например, по воздуху не летали, а все-таки жили, и не хуже жили.
За рабочим своим столиком сидит бабушка Татьяна Егоровна, в доме тихо, и слышно, как тикают на камине часы. А когда приходит им время звенеть далекими колокольчиками, бабушка вздыхает и как-то неохотно слушает – все же слушает. Слов нет – бьют часы верно и ни в чем не стали хуже. Однако радости в их бое нет – да и чему старухе радоваться.
Когда пришло воскресенье, бабушка завела часы ключиком. И часы прежние, и ключик прежний. Не их, конечно, вина, что два дня провели они у чужого человека, который что-то там винтил или пробовал. Никакой с их стороны не было измены.
В эту ночь бабушка проснулась, потому что в комнате легонько чикнуло. Проснулась – и долго не могла снова уснуть. Не то чтобы беспокойство, а как бы ожиданье: вот что-нибудь случится. Так и лежала, закрыв глаза и слушая ночную тишину. И часы пробили – все продолжала лежать. И вдруг показалось бабушке, что часы пробить пробили, а не совсем так, как им теперь полагалось. И от этой мысли бабушка взволновалась – сон совсем ушел. Зажгла свет, посмотрела, все правильно, часы идут хорошо и тикают по-прежнему. Скоро свет – на стрелках начало шестого. А в памяти что-то осталось – и волненье.
Тогда бабушка Татьяна Егоровна, в кофте и ночном чепце, села на стул против часов и стала ждать.
Было самой немного стыдно: “И чего я, старуха, жду, чего хочу? Спать бы да спать!”
И решила: “Подожду до четверти да и лягу”.
Действительно подождала. Когда же колокольчик в первый раз ударил, вся замерла в ожидании и стала губами считать:
– Раз, два…
А вместо третьего, четвертого и пятого – изменился звук колокольчика и заиграли часы четверть.
Бабушка так и замерла. Когда умолкли часы – подумала: да уж не ошиблась ли? Да ведь как ошибешься? Ведь если сказать по чистой совести – ведь этого и ждала она, сидя на стуле в ночной час. Сама себе не сказала – а ждала: пять ли пробьют или только два раза, как били они двадцать лет подряд. Как же можно ошибиться!
И тут сошло в душу бабушки как бы сияние: и странно это, и смешно, а уж так хорошо, точно провели по сердцу ласковой рукой.
Заторопилась, хитро заулыбалась, поскорее легла в постель, укрылась,- а сна нет, хочется еще услыхать, как будут часы бить половину.
Долго тянулось время, словно бы нарочно кто его затягивал. Тикали часы тихонько-тихонько и, как живые, нашептывали: “Теперь уж будьте покойны, все будет по-старому!” А как подошло время к половине шестого – звоном колокольчиков, ясным и уверенным, пробили бабушкины верные часы опять ровно два, другим колокольчиком отзвонив и половину.
И тут бабушка заснула, вся утонув в улыбке и спокойствии. Сон ее был легок, а новый день ее был светел и полон неутомительной суеты.
![]()