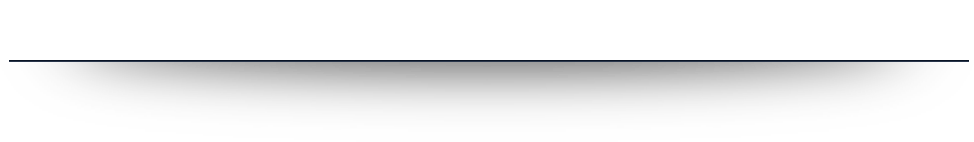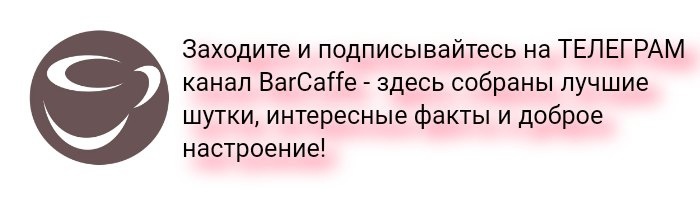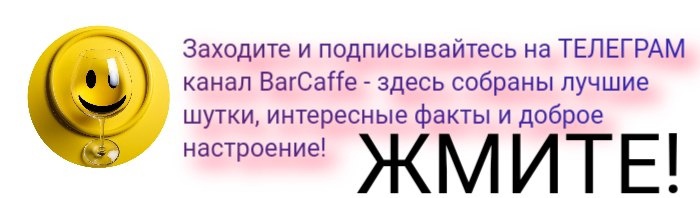Добрые люди уходят днём (народная примета).
Катализатором пробуждения родовой памяти может быть всё что угодно: кому − слово, кому – дело; кому − радость, кому – боль; кому − цветы, кому – меч; кому – жизнь, а мне… – смерть. Точнее – Смерть, МРИТА по-старому.
Когда жёсткий, но привычный советский мир рухнул, то всем нам пришлось форматировать себя и своё отношение к новой жизни. И в целом, и в частностях. Кто не спешил форматироваться, тех жизнь сама форматировала, невзирая на прошлые достижения, заслуги и награды. Сначала мягко, потом всё более жёстко и жёстко, одних на верх пирамиды вздымая, других под шконку загоняя. Кого же и эти форматирования не взяли, тех уже смерть форматировала: одних в мягком варианте, среди своих; других – в жёстком, но тоже среди своих; третьи – в катастрофическом, за Матрицу вышвырнув.
Я в то время как раз за Матрицей море пахал, философски относясь ко всему, что творилось в отчизне, поскольку 500 долларов в месяц и немного рублями, которые я получал когда Страна моя последнюю сосиску без кетчупа доедала, позволяли мне смотреть в будущее и без угрызений совести, и без пересмотра жизненных ценностей. Самоуверенно полагая, что и дальше всё будет пучком. Даже не догадываясь, что Жизнь-и-Смерть начали готовить меня к форматированию ещё в 1988 году, когда друг детства, зная про мою нелюбовь к морской романтике, пытался заманить меня в анискины. Как раз после первого потопа моего, случившегося на лесовозе «Северолес». Еле-еле выкарабкались тогда. Я же в ответ лишь усмехнулся, мол, ну нафиг, мол лучше в синей краске от кирзачей и до каски, нежели в испражнениях человеческого негативного бытия от фуражки и до пенсии.
Ну и продолжил море пахать. Из-за горизонта наблюдая, как великая страна трещит по швам.
В 92-м Жизнь-и-Смерть ещё раз намекнули о своём парном сосуществовании, устроив мне ужасающий по своей яри и мощи потоп уже на «Николае Погодине». Пришлось вусмерть биться, и за себя, и за экипаж. Всю ночь. Под утро лишь кое-как отбились.
После чего, поутру, и сказал сам себе: да я, блин горелый, офигеть какой фартовый!
Мысль эта грела меня аж три года. Пока в декабре 1995 года те и ещё раз не напомнили о себе, уже более изощрённо: в тот год душа моя вдруг шибко затосковала от мысли, что наступающий 1996 год – високосный.
Я было посмеялся над тоской той, но следом припомнил, что и 1988-й с 1992-м тоже были, хм, високосными.
А так в голове и прописалась мысль, что с морем пора завязывать.
Однако родимый авось на то заметил: «Да не дрейфь, авось пронесёт!».
И я снова отложил самоформатирование, и опять собрал чемоданы для очередного рейса. Однако, на том судне, куда я был назначен, случилось ЧП, в результате которого смены экипажей не произошло.
Затем случилось хрень и с другим судном, куда я, было, навострил лыжи.
А затем в одночасье умерло и само пароходство, в котором я трудился 12 лет по окончании мореходки.
Подозреваю, что Жизнь-и-Смерть тогда смотрели на меня с неподдельным интересом, мол, как долго я смогу игнорировать неизбежное.
Я же упёрся и даже было заключил договор с одной немецкой судоходной компанией, пройдя собеседование с боссом той фирмы по телефону, по результатам которого получил не только «Gut!» от потенциального своего капитана, но и визу с билетом до Гамбурга. Однако за день до вылета Гамбург отказался и от моих услуг, и от услуг тридцати таких же как я моряков, из-за того, что накануне какой-то наш матрос прибил до смерти своего капитана-немца. В результате этого смертоубийства та контора и отказалась от услуг русских моряков, да в пользу филиппинцев и малайцев.
Тут-то я и понял: «Пора».
Лукавый, правда, ещё раз пытался сбить меня, увлекая от переформатирования под греческий флаг, но я твёрдо решил, что лучше вернусь в колхоз, нежели буду батрачить под греческим или либерийским флагом.
А так вот старый мореман-волосюга и оказался участковым в своей большой деревне, поскольку мои глубокие познания лоции с навигацией, как и астрономии с метеорологией, в родном колхозе оказались никому не нужными.
После моря в участковых мне понравилось. Лишь дежурства вызывали устойчивую неприязнь, поскольку приходилось выезжать не только на последствия человеческой глупости или жадности, непредсказуемость которых исследовать было весьма интересно, но и на все некриминальные смерти подряд, разбираться с которыми было и скучно, и, как правило, неприятно. Поскольку, как выяснилось, родичи своих умерших боятся панически. В редком доме не велят участковому: “Побыстрее увезите… это в морг!”
И я молча изумлялся страхам тем.
Дох же народ в середине 90-х косяком.
Где-то через год я с изумлением заметил, что к смерти стал относиться не то чтобы без негатива, а напротив, с уважением и почтением, как к чему-то разумному. Как к чему-то в высшей степени разумному. И совершенно справедливому. И естественному. То есть как к Жизни. И это при том, что тот год работы довёл меня до ужасающего мой ум наблюдения: среди всех тех трупов, что я описал не было ни единого человека, умершего по-человечески.
То есть, НИКТО из тех людей, что мне как участковому достались как трупы, не умерли ПРИЛИЧНО.
В лучшем случае был тридцатилетний работяга, обожравшийся палёной водки и померший на полпути от собственной кухни и до своей же спальни. В коридоре то есть померев, уткнувшись носом в родимые кирзачи. В такой позе меня участкового и дождался, да под хай тёщи, самобичевание жены и невыносимый вой малолетних детей.
А в худшем случае был одинокий шестидесятилетний дедок, который на ход ноги вспомнил о чистоте, залез в ванну, где и помер, предварительно успев завернуть лишь вентиль холодной воды. А так и варился в кипятке. Аж полтора месяца. Ибо всю жизнь конфликтовал с соседями по лестничной площадке. А тут у соседей вдруг полтора месяца тишины случились.
Передавать те слова, которыми сопровождалось извлечение трупа сварившегося дедка я не стану, замечу, лишь, что к этой операции пришлось привлекать суточников (арестованных на 15 суток), пообещав каждому скостить по два дня ареста. Плюс, выделить им бутылку водки из конфиската для совершенно необходимой в той операции дезинфекции. В итоге из ванны под мат-перемат и неописуемый тошнотворный запах были извлечены сначала две руки деда разом, потом его верхняя часть с головой сверху и волочащимися кишками снизу, а потом таз и ноги, поочерёдно.
Тот день и стал поворотными в моём личном форматировании.
А если точнее, то точкой отсчёта форматирования стала следующая мысль, возникшая само-собой в голове моей, как реакция чего-то там в оной на матюги суточников:
– Интересно, а каковы будут последствия душе этого дедка из-за сквернословия арестантов?
И следом:
– А насколько моя личная брезгливость, вызванная созерцанием этого «натюрморта», что в протоколе трупом именуется, да усиленная тягчайшими позывами тошноты станет отягчающим фактором для посмертия сварившегося дедка?
Ну и пришёл к неким выводам.
Вот.
На том вступление заканчиваю и перехожу к рассказу о том, как нормальные люди в мир иной уходят. Нормальные добрые люди. На трёх примерах ухода сородичей.
Итак.
Бабушка
В один из осенних дней 1990 году умерла моя бабушка Устинья Яковлевна, “лучше всех”, как потом говорили односельчане.
Накануне дед и бабка повечеряли, похвалив день прошедший и обсудив труды на грядущий. Затем бабка как обычно помолилась Богу, вознеся хвалы и благодарности и за родителей, своих и дедовых, и за их родителей, что на погосте сельском недалече друг от друга улеглись, и за себя, неграмотную мать-героиню, и за деда, коммуниста и кавалера ордена Славы с инвалидностью 1-й группы до кучи, и за высшее и техническое образование девяти детей своих, в упоротом атеизме строивших СССР от Таллинна с Калининградом и до Хабаровска с Петропавловском-Камчатским, и за пятнадцать внуков-комсомольцев, что от перестройки ждали и дождались перестрелки, и за две дюжины правнуков, октябрят и пионеров, не ведавших, что комсомольцами им не быть, и ещё много за что. А дед в это время тишком и ещё стаканчик водочки откушал. Ну и спать улеглись.
По-утру дед проснулся в холодном недоумении: печь не топлена, яишница не шкворчит, бабка спать продолжает. Ну и похромал от своего дивана к кровати её, пожурить. Тряс-тряс, тряс-тряс, да и не растряс. Та даже глаз не приоткрыла. Лежит, дышит, но не шевелится.
Прибежавшая фельдшер лишь вздохнула: «Всё, дед, инсульт! Созывай внуков!!! Больше трёх дней бабка твоя не продержится…»
Последними явились эстонские и питерские потомки, как раз на третий день. Не раздеваясь и не разуваясь побежали к бабке. Успели! И тут же разом запричитали бабкины подруги, такие же старушки, нам внукам и правнукам, в сенцах толпившемся: «Эй, внуки, бежите в горницу, бабка ваша отходит!» Мы спешно столпились вокруг. Рядом тётки причитают, дядьки стонут, старушки мольбы шепчут, кошка мяукает. За окном пёс воет, ветер дует, деревья клонятся, облака хмурятся. Рушник на зеркале колыхается… И вдруг из намертво сомкнутых глаз бабки пробилась одна-единственная слезинка и медленно-медленно потекла по щеке морщинистой, стократно нами целованной, с миром прощаясь и с нами. С Жизнью. А за слезинкой последовал и последний еле заметный бабушкин выдох. Тишайший. Как жизнь её. И всё. Бабушки не стало.
Все заплакали. Мужики – скупо. Бабы – навзрыд. Небо – дождиком проливным…
В положенный день двенадцать её внуков и наиболее взрослые из правнуков понесли бабу Устю по главной улице села. По-мужски понесли, без эмоций и соплей. А следом потянулась процессия из трёх десятков её потомков. Плюс, около сотни односельчан. Вой стоял жуткий. Жутчайший! Нёся бабку и слушая причитания родичей и селян я вдруг подумал:
– Интересно, по Брежневу было ли столько причитаний, сколько наша баба Устя за собой тянет?
Тут бабы наши, будто услышав слова мои, и ещё на октаву наддали.
Несём дальше. Мысль комсомольская несётся следом:
– Ну и чё бабы ревут? Бабка же в лучший мир ушла…
Процессия затихла.
Я напрягся в недоумении, мол, почему тихо стало?
Сбился с шага.
Младший брат, почуяв, что со мной что-то не того, по-братски подставил своё плечо под гроб, вытолкнув меня из-под него уже в иной для меня мир.
– Во, девки поют! − офигела мысль моя, наполовину всё ещё комсомольская.
В процессии кто-то запричитал в один голос. Причём, голос был явно не из наших. Тут же вспомнился документальный фильм «Блаженны кроткие», посвящённый соседней деревне, отцовой, в самом начале которого такой же голос так же причитал над усопшим. При просмотре причитания не тронули, а тут – как 220 вольт под сердце: «Баба Устя ушла в лучший мир, а нам… тут… карячиться!».
Понял, короче говоря, почему бабы наши по покойникам рыдают.
А так неспехом и добрались кладбища. Опустили гроб с бабушкой в могилку, заботливо кем-то выкопанную, рядом с прадедами и дочками двумя.
Потом были прощальные слова и кутья.
Я отошёл подальше. Закурив беломоринку начал размышлять, кто и о каком таком, нахрен, лучшем мире мне, комсомольцу и атеисту, тут по ушам… или мозгам… хм, ездил?
А в это время дед закончил свою прощальную речь и бросил горсть земли на крышку гроба. И словно гром громыхнул. Эхо удара земли о гроб сначала пронзило сердце моё болью неописуемой, а потом рухнуло в живот, где и взорвалось бомбой атомной, разнеся меня прежнего безшабашного моремана, ни чёрта, ни бога не страшащегося, на атомы…
Очнулся я уже иным человеком; в том же обличие и с той же беломориной в зубах, с теми же достоинствами и недостатками, но иным, рыдающим взахлёб. Рядом же слышалась дробь пригоршней земли, гремящих по крышке гроба на всю вселенную; от каждого удара меня и рвало слезами. Слёзы мои били фонтаном. Они не истекали, но вылетали из глаз моих, расстреливая дымок извечной папироски моей.
А так, в соплях, пепле и земле и вернулся до дома прадедова. Совершенно иным человеком. Поминая и жуя-пережёвывая бабкины слова, сказанные мне в годы мои пионерские: «Умру, и спросить вам не у кого будет, что и как…».
Дед
Наш дед даже в 92 водочкой себя любил попотчевать, по стаканчику перед каждой едой. Плюс по праздникам − семейным, церковным и государственным − по нескольку стаканчиков. И в карты до последнего дня так красиво жульничал, что никто и никогда не серчал, получая от него тузы на погоны. Ибо потехи ради, а не корысти для дед жулил.
Дубок, одним словом, жизнерадостный. Увешанный орденами, медалями и нашивками за боевые ранения.
И со здоровье до дня последнего всё в порядке было. Включая тот день. Совершенно здоровым ушёл! Накануне даже по грибы сбёг, без спросу дочери за ним присматривавшей. Из минусов же по здоровью − не гнущаяся левая нога, покалеченная на войне вражьей миной, да один утраченный на 86-м году жизни зуб, из-за неаккуратного обращения дедовой челюсти с рулём его же «Запорожца» с ручным управлением.
За три дня до смерти дед ненадолго пропал со своего штатного дивана. Дочь его, за ним ухажившая, что тётка мне, пометавшись около часа от магазина и до речки к удивлению своему обнаружила отца стоящим во дворе дома; тот наивнимательнейшим образом рассматривал то ли небо голубое, то ли маленькое белое облачко, висевшее чётко над ним. В зените, то есть. Та подошла к деду и попыталась увести в дом. Но не тут-то было; не обращая на дочь внимания дед продолжал рассматривать небо. При этом беззвучно шевеля губами, словно читая в высях что-то написанное. Тётка перепужалась вусмерть и даже попыталась столкнуть его с места, два раза пихнув его обеими руками. Безуспешно. Тот стоял, по её словам, «как дуб недвижимый; вроде и мягкий, вроде и тёплый, но будто неживой, как дерево». И ни разу не шевельнулся и не покачнулся даже тогда, когда тётка с перепугу со всей силы стала его пихать. Так и стоял то ли пять, то ли десять, то ли пятнадцать минут, задрав голову и шевеля губами. Потом вдруг вздрогнул, обмяк, безвольно опустил голову, осмотрелся, увидел тётку и говорит ей:
– Ну, всё, доча, пора! Созывай внуков!
Пока та, потеряв дар речи, соображала, что значат слова отца, дед дохромал до своей постели, улёгся и больше не встал.
А так и пролежал три дня. Без единого слова. Без единой крошки пищи. Без единого глотка воды. Дышал только. Размеренно, спокойно, уверенно. Дышал так, как не всякий молодой дышит.
На третий день до калужщины добрались и те из детей-внуков-правнуков, что забрались в Хабаровск. И дед, дождавшись их, так же безмолвно как бабушка когда-то сотворил последний свой выдох. Бесслёзный.
Мама
В тот день мамулька моя вышла поутру из дома, поприветствовала добрым словом соседей, сгоношила одну из них по клюкву на болото, но чуть опосля, мол, только до фельдшера дойду и давление померю; зашла в медпункт, благо идти – дорогу перейти, сказала фельдшерице, что голова сильно кружится, мол, посмотри что с давлением, и пока та беду свою на рукав ей накладывала тихо выдохнула.
***
И все прочие мои сородичи умирали похоже. Без мата-перемата и прочего негатива вдогонку, типа: “Увезите труп поскорее!”
Какой, нафиг, труп? Это же наши родные, в мир иной отошедшие!
Отец лишь несколько иначе умер, точнее погиб − в бою-драке, один на четверых. На трезвую голову. Днём. Как воин.
Эти-то примеры и породили поговорку: у доброго человека и смерть добрая.
Так что боятся смерти не надо. Боятся жизни нужно, неправедной, не по совести которая. А ещё – мыслей собственных, “гениальных”…

***