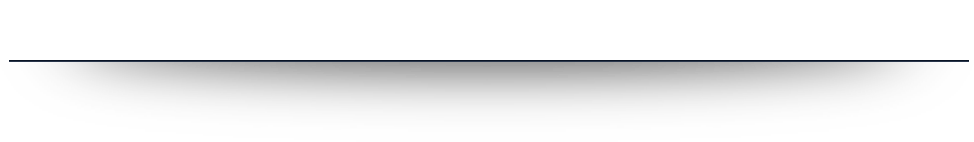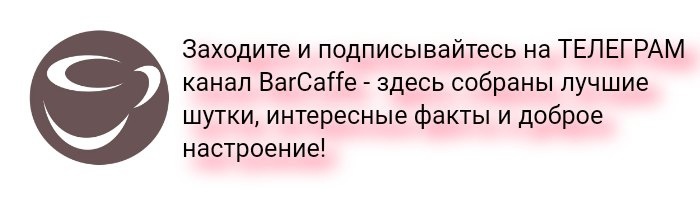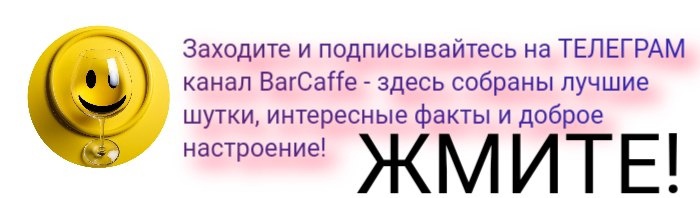![]()
У Крутели было запутанное прошлое.
В незапамятные времена всеми землями и вверх и вниз по Суровке владел помещик Шуриков, дальний родственник всесильного графа Орлова-Давыдова, имевшего во сто крат больше лесов и пахотных угодий на соседней Волге.
Тогда-то на месте теперешнего ничем особо не приметного дома Прохора Силантьича кичливо высились двухэтажные хоромы с причудливыми остроконечными башенками по углам, окруженные обширным садом. На мысу же, где были разбиты клумбы, у самого обрыва, стояла ажурная беседка.
Но после отмены крепостного права род Шуриковых захирел. Из года в год проматывались леса, земли, пойменные луга.
Незадолго до смерти разгульного родителя Мефодия Илларионовича – последнего отпрыска когда-то богатых помещиков, в одно засушливое лето барские хоромы однажды неспокойной, ветреной ночью занялись пожаром.
Слухи ходили разные: одни шептали, будто господам кто-то по злому умыслу пустил «красного петуха», другие винили в случившейся беде старого барина, спившегося с кругу. Будто это он перед сном обронил на ковер горящую папироску. Если б не преданный слуга, бесстрашно бросившийся в охваченное пламенем окно спальни, барину не видать бы белого света.
В тот же год под осень на этом месте возвели деревянный особняк из шести комнат. А зимой восьмидесятилетний барин отдал богу душу.
Мефодий Илларионович, став полновластным хозяином оскудевшего вконец имения, еще до смерти батюшки увлекавшийся учением графа Толстого, весной – шагал по земле уже девятисотый год – большую часть оставшейся земли роздал многодетным семьям мужиков из Утиных Двориков.
С тех пор его и прозвали в народе «недоумком».
Когда же вскорости от Мефодия Илларионовича сбежала жена с заезжим красавцем прапорщиком, он уж совсем опростился: сошелся с молодой разбитной горничной Алевтиной, ходил за плугом, махал косой, управлял молотилкой – ни в чем не отставая от работников. С ними же, работниками, и ел-пил за одним столом. Теперь уж мужики из Утиных Двориков и окрестных деревень при встрече с помещиком не снимали даже шапок.
И хотя непрактичный в делах Мефодий Илларионович и жил со своей Алевтиной экономно, хозяйство его изо дня в день приходило в упадок, и перед самой революцией «недоумок» окончательно обнищал. Были проданы последние двадцать гектаров земли богатею Уваркину из тех же Двориков. Работники еще до этого разбежались кто куда.
Октябрьскую революцию постаревший Шуриков встретил восторженно. До самой смерти работал он в волостном управлении делопроизводителем. Едва же бренные останки последнего в этих местах помещика были преданы земле – произошло это в двадцать третьем году, как его Алевтина вышла замуж за мельника, вдовца из соседней деревушки Клопики. Рачительный мельник, прибрав к рукам заброшенный сад, навел в нем порядок и в годы нэпа от продажи яблок, вишни и груш имел немалый доход.
Во время раскулачивания и богатея Уваркина из Утиных Двориков, и других, ему подобных, сослали в студеные края. Не забыли и клопиковского мельника с его подурневшей и обрюзгшей Алевтиной Сидоровной, вольготно, по-барски поживавшими у себя на Крутели.
Так в ненастный февральский денек в гулком, просторном особняке на берегу Суровки не осталось ни одной живой души.
В Совете многим бедняцким семьям предлагали занять бывшую барскую усадьбу, но никому не хотелось покидать Утиные Дворики, заживо хоронить себя у лешего на куличках – на обдуваемом всеми ветрами одичалом мысу.
Лишь один Силантий Сычков – многодетный мужик, не бедняк, но и не середняк, сам попросился на Крутель. У этого Силантия было два сына и семеро девок.
Правда, старший сын Андриян еще в конце восемнадцатого, подростком, пропал безвестно во время наступления беляков на Междуреченск – крупный железнодорожный узел в низовье Суровки при слиянии её с Волгой.
Сказывали потом клопиковские мужики, где Андриян в ту пору находился в обучении плотницкому делу у деда Макара, что как-то в октябре под вечер остановился у деревушки буксир с баржой. К берегу пристала лодка, и белогвардейский офицер, сопровождаемый двумя солдатами, спросил первую встречную бабу, есть ли в деревне плотники? Якобы на барже у них течь образовалась и нужен незамедлительный ремонт. Ну, и болтливая та молодка указала на избу искусного в своем ремесле Макара. Деду и его подручному Андрияну было приказано собраться, не мешкая, прихватив с собой топоры. Увезли старого и малого на баржу. Домой они не вернулись.
И остался у Силантия Сычкова лишь младшенький Прошка. В конце двадцать девятого пострелу едва минуло тринадцать, и помощи от него в хозяйстве не было никакой. К тому же в семье все его баловали. Хозяйство держалось на Силантий и девках. Трем из них уже перевалило за двадцать. Самые же последние из девчонок Силантия – двойняшки – тоже заневестились: на рождество исполнилось семнадцать. Хоровод невест, да и нате вам! Но женихи обходили подслеповатую мазанку Сычковых.
Когда Силантий, не робея, высказал в Совете свое желание поселиться на Крутели, председатель, раскатисто хохоча, пробасил:
– Ты чего, моржовый хрен, женский монастырь собираешься открывать? Туда, за пять верст, ни один женишишко – даже самый квелый – не забредет. А у тебя того… иных девок вскорости в перестарки придется зачислять!
– Не сумлевайся! – в свою очередь ухмыльнулся тщедушный с виду Силантий. – Упрочусь в барских хоромах, глядь, и женихи-соколики объявятся!
Ну и отдали Силантию Сычкову Крутель. А в придачу к дому с садом прибавили жеребую матку и корову с телушкой. В ту пору после кулаков в селе осталось преизрядное количество всякой живности. Не дохнуть же ей с голоду без хозяйского присмотра!
И вот зажил Силантий на Крутели со своим выводком. Девки у него были приземистые, рукастые, они все углы и закоулки в доме выскребли и вымыли. Навели порядок и на скотном дворе.
В амбаре под двойным полом обнаружили яму с пшеницей, припрятанной рачительным мельником. За садом же стояла пара нетронутых стожков сена. Чего еще большего можно пожелать многодетной мужицкой семье?
К весне отощавший Силантьев Воронок набрался силы, кулацкая матка принесла кобылку, обгулялись и корова с телушкой.
– По данной поре, девки, дери домового за хвост, заживем мы не хуже господ! – вольготно вздохнул после сева Силантий. – Земля тут добрая, скотинушка у нас справная. К саду самая пора приложить руки. Глядишь, и яблочками в кой-то век побалуемся!
Порозовевшие дочери согласно кивали головами.
Лишь жена – всё такая же иссохшая и поблекшая – оставалась безучастной к перемене в жизни семьи.
– Чего нахохлилась? – допытывался у неё раздобревший на пшеничных калачах хозяин.
Та, вздыхая, крестилась в передний угол на прочерневших святителей, мнилось, гневно, осуждающе взиравших на незваных пришельцев.
– Страховито мне, Силантьюшка, страховито. Кабы чужое-то добро поперек горла не застряло.
– Дура, невитое сено! Была век дурой и осталась такой! – вскипал Силантий. И, не говоря больше ни слова, громыхал дверью, шёл на конюшню.
Через полгода Сычков выдал замуж сразу трёх старших девок. В приданое одна получила лошадку, другая – корову, а третья – часть дома. Куда ему, Силантию, шесть комнатищ? Одних дров в зимнюю пору не напасешься, хотя лес и под боком.
Молодые после свадьбы выделенную им половину особняка перевезли в Утиные Дворики к жениху на загон, а Силантий перестроил по-своему бывшие парадные комнаты.
Когда через какое-то время повсеместно началась коллективизация, Сычков один из первых привел на общий двор своего мерина и полугодовалого бычка.
– Берите, – сказал он великодушно. – Сгодятся в таборном котле.
– А где твое заявление о вступлении в колхоз? – спросил Сычкова председатель Совета.
– Я в бакенщики собираюсь податься. На Крутели наблюдательный пост речники учреждают. А в людях у них нехватка. Я и решил послужить государству.
Багровея гневно, председатель не смог даже слова вымолвить. Лишь указал Силантию на дверь: «Скройся сей же момент с моих глаз, оборотень двоедушный!»
Подрастающий Прохор так втянулся в новую отцову работу, что после седьмого класса и школу забросил.
В своем хозяйстве тоже требовались заботливые руки: тут тебе и сад, и огород, надо и сенца вовремя накосить корове, и рыбки наловить, заготовить к зиме впрок и сушеной, и вяленой.
Большая когда-то семья постепенно редела: выходили одна за другой дочери – они у Силантия все были до работы жадные. Лишь одна Любаша, четвертая, осталась безмужней. Погулял-погулял с ней один сельский ухарь, обесчестил девицу и бросил. И хотя ребеночек у Любаши вскорости после родов умер, но замуж её так-таки никто и не взял.
После же смерти матери в тридцать седьмом Любаша стала хозяйкой в доме, и тут уж Силантий в душе побаиваться начал: а вдруг кто посватается к дочери, тогда им с Прошкой туго одним придется. Жениться же он в другой раз не помышлял – годы не те.
В том же тридцать седьмом случилось и еще одно несчастье в семье Сычковых: Прохору – ладному, гладкому парню, собиравшемуся по осени в армию, на лесопилке в Двориках, где он зимой подрабатывал девчонкам на пряники и карамельки, циркульной пилой отхватило на левой руке сразу три пальца. Но говорят же в народе: нет худа без добра! Не взяли Прохора на действительную службу, остался он дома и во время войны с фашистами.
В начале сорок первого тихо скончался отец, похворав всего-то неделю, и Прохора, до того работавшего в навигацию помощником бакенщика, начальство технического участка пути зачислило на Силантьево место.
Любаша, души не чаявшая в своем статном брате с цыгански смуглым лицом в летнюю пору и по-юношески румяно-белым зимой, всё уговаривала его жениться. Как-то раз под осень, умильно улыбаясь, она запела:
– Хватит, Прошенька, колобродить, пора и гнездо вить. Была вчерась в Двориках, топаю по улице, а навстречу мне павой-королевой плывет… чья бы, ты думаешь, девица? И сама поразилась: Мыркиных Ксюшка! Заневестилась краля, самая пора замуж девку выдавать!
– Каких Мыркиных? – лениво потягиваясь, спросил Прохор, вставая из-за стола после сытного – не по военному времени – завтрака. – Евсея, что ли, цыпонька? – И облизал языком пунцовые губы, опушенные вьющимися колечками усов.
– Не-е, – замотала головой Любаша.
– Ну, тех Мыркиных, что на песках, за озером, живут?
– И вдругорядь нет! – сказала сестра, снова наливая себе в чашку душистого чаю. На заварку шли сушеные ягоды черной смородины.
– А-а, – заулыбался добродушно Прохор, опять, теперь уж тыльной стороной левой, двупалой, руки, отирая пухлые, точно у девицы, губы. – Значит, Фрола Мыркина эта Ксюша. Видел летом её голышом на речке: грудешки по кулачку, белые, что тебе сахар-рафинад.
– Как Фрола? – Любаша удивленно подняла на брата глаза – тихие, синие, как загрустившая вода в Суровке в начале сентября. – Разве он не Авдей?
– С какой это стати? – упорствовал брат. – У Авдея как раз на песках за озером халупа, а Ксюшка Фрола Мыркина… они напротив сельпо живут.
– Ну, и пес с ними, где они живут! – раздосадованно махнула рукой Любаша. – А вот девка эта Ксюша как ни есть тебе пара, Прошенька! Давай сватов посылать.
– К чему торопиться? – отнекивался Прохор, поправляя волнистый чуб перед зеркалом с портретом Сталина в нижнем углу. – В теперешнее-то время… солдаток молодых… да и девки сговорчивее стали. Только сейчас и потешиться! А хомут на шею никогда не поздно напялить.
Однажды в январе сорок третьего года один фронтовик, вернувшись в сумерках в Утиные Дворики с попутной подводой из райцентра, застал у себя дома бражничавшего с его смазливой женой развеселого Прохора. И он так отходил упитанного бакенщика увесистым своим костылем, что тот едва унес ноги. В одном исподнем белье огородами крался Прохор до избенки одинокого деда-горемыки, заядлого рыбака. Тот и снабдил парня до утра шубенкой с треухом да латаными-перелатанными валенками.
Суток трое отлеживался Прохор дома, а вокруг него, точно клушка, хлопотала сердобольная Любаша, надоедая разными примочками и припарками, отпаивая братца препротивно-едучими настойками, приготовленными на самогоне-перваче.
Больше информации на сайте рекламодателя
Любаша надеялась: уж теперь-то ее гулливый братец одумается, возьмется за разум и женится. Но нет, не тут-то было. Еще с год куролесил беспутный Прохор. И лишь поздней осенью сорок пятого, заявившись раз из Утиных Двориков к самому обеду, Прохор сказал сестре, уставясь в миску с рассольником:
– Можешь сватов рядить… к Алене Глухарёвой.
Любаша даже поперхнулась.
– Уж не ослышалась ли я, братец?
– Нет, не ослышалась, – твердо произнес Прохор.
– Да… да, милостивая владычица, он что, стоеросовый кобелина, с ума спятил? – взмолилась набожная Любаша, глядя в передний угол. – Девок ему мало? Она же, эта Алёнка, замужняя! Заявится муж…
– Не заявится. Похоронная ещё в апреле пришла. В Германии убит её Жорка.
Тихая, обычно покорная во всем Любаша вышла сейчас из себя:
– Чем же она тебя приворожила, змея эта ночная? У неё ни рожи, ни… прости меня, господи! Или на сундуки позарился? Ведь её Жорка, когда в сельпо торговал…
– Хватит сорокой трещать! Прекрати всякие свои прения оскорбительного толка! – Прохор побледнел, выпрямился. – Люблю Алену, и всё тут!
– Я… я… я не стерплю такого надругательства над нашей семьей! – заревела в три ручья Любаша. – Я… я уйду из этого дома! Немедля же! Уйду или к Лушке, или к Нюрке. А под одной крышей с распутной кривогубой Алёнкой жить не стану! Не один ты ночевал у неё в военные годы. Всякий, кто в штанах, не проходил мимо…
Прохор, озлобясь до крайности, грохнул по столу мосластым кулачищем.
– Выматывайся! Хоть сию же минуту! Только допрежь оглянись на себя, какая ты есть непорочная!
Безутешно рыдая, несчастная Любаша ушла за печку, где у неё стояла железная кроватёнка. Всю длинную глухую ту ночь она не сомкнула заплаканных глаз. Надеялась, что поутру любимый братец попросит прощения, станет уговаривать не покидать родного угла.
Ночью первый в эту осень снег покрыл землю – так бывало радовавший Любашу. Но рассвет – скудный, тоскливо-свинцовый – наступил поздно, не принеся Любаше ни малейшего облегчения. Она ещё лежала, с тревогой глядя на серевшую перед ней печку, когда Прохор, выйдя на кухню, оделся, сопя сердито, и ушел во двор. Слышно было, как он колол в сарае дрова: бух, бух, бух!
Сложив в крапивный мешчишко свои пожитки и уже не плача, Любаша помолилась перед молчаливыми святителями, такими бесчувственными к её горю. А надев старую свою шубейку – Прохор не догадался справить сестре новое пальтецо, вышла из дома, чтобы никогда больше сюда не возвращаться.
Пока она спускалась с крыльца, пока брела двором к калитке, из сарая доносилось все то же упрямое, тупое, остервенелое буханье.
Через неделю Прохор сыграл свадьбу, созвав на пир знакомых бакенщиков, друга лесника Васю. И хотя вода в Суровке засалилась и по её снулой поверхности уже блинцами лениво плыли льдышки, на Крутель притарахтел катер с начальством из путейской конторы. Приезд инспектора и обстановочного старшины заметно развеселил Прохора Сычкова. Не были на свадьбе лишь сестры.
Двадцать шесть лет прожил Прохор Силантьич душа в душу со своей Алёной – раздобревшей до крайности в последние годы, но всё такой же расторопной и юркой, как и в начале их совместной жизни. Одно их сокрушало: не обзавелись детьми. Со временем же притерпелись, свыклись с этим горем, ещё крепче привязавшись друг к другу.
За все годы ни одна из сестёр Прохора Силантьича не навестила Крутели. Не наведывались и мужья их, и дети. Будто у сестриц никогда-то не было любимого брата Проши!
В пятьдесят пятом, а может, и в пятьдесят шестом, на исходе томительно-жаркого августа – точно снег на голову – заявился раз поутру в одинокую обитель на мысу диковинный гость.
Худущий этот мужчина, неприметный обличьем, был в поношенном порыжелом пиджаке, перешитом из офицерского кителя, мятых галифе. Даже бурое, безбровое лицо его и сапоги с короткими голенищами тоже казались изрядно помятыми, морщинистыми.
– Сычков? – спросил незваный гость, когда Прохор Силантьич слегка высунулся в калитку. – Прохор, по батюшке Силантьич?
– Он самый, – на всякий случай улыбнулся хозяин, никогда раньше не видевший странного этого человека. – Вы к нам не насчёт страховки? А то днями наведывался товарищ из Госстраха. Я расплатился сполна.
– Нет, не из Госстраха, – щуря насмешливо глаза, так и сверлящие насквозь, медленно произнес пришелец. – Скажите, у вас не было брата, коего Андрияном звали?
Бледнея, Прохор Силантьич растерянно попятился от калитки.
– Был… говорил отец – был. Слышь, в восемнадцатом, вьюношем малым… как в воду канул. С тех пор…
Ходячий этот скелет, словно выходец с того света, перебил Прохора Силантьича, кривя в жутковатой улыбке тонкие землисто-пепельные губы:
– Точно, он вначале в воду канул… в одну штормовую октябрьскую ночь, а потом… а потом воскрес. И прожил долгую… трудную… жизнь. А в данный момент стоит перед тобой, Проша, гладкий ты боров! Принимай-ка на постой!
Веря и не веря словам пугающе-странного – совсем будто чужого – человека, ни одной черточкой не похожего ни на отца, ни на мать, Прохор Силантьич посторонился, пропуская его в калитку. И зычно крикнул:
– Алёна… где ты там? Ставь-ка давай самовар!
Всего около недели прожил на Крутели брат Андриян, а Прохору Силантьичу показалось: прошёл год, а то и два. Такими во всем разными были братья, так несхоже сложилась у каждого жизнь, а вот поговорить… поговорить-то им словно и не о чем было.
– Ты спрашиваешь: как существовал я эти годы? И почему не писал? Ведь без малого на сорок лет судьба разлучила меня с семьей, – не спеша, то и дело смолкая, говорил за чаем Андриян, сразу же отказавшись и от водки, и от яичницы с салом, и даже от балыка осетрового домашнего приготовления, сославшись на язву желудка. – Ты бы, Проша, лучше спросил: а чего в моей жизни развесёлой не было? – Помешал ложечкой в стакане. – А в ней всякого не оберёшься. – Улыбнулся стеснённо, глянув мельком в глаза настороженно-вежливой Алены. – Гражданская… Семнадцатилетним, после того как отходили меня – чуть ли не утопленника – парни из красногвардейского отряда, так с ними вместе до победного конца сражался за Советы. Потом вкалывал на разных стройках, а вечерами, урывками, учился. Между прочим, Сталинградский тракторный тоже строил. Вам я не раз и не два писал, хотелось о семье всё знать, да, видно, письма мои несчастливые были, не доходили до Двориков. А в тридцать седьмом – вскорости после рождения четвертого сына – угодил на Колыму. До самой Отечественной лопатой орудовал. Началась война, попросился на фронт – повезло, отправили в самое пекло. В сорок третьем – уж до младшего лейтенанта дослужился – попал в плен. У немцев сидел в лагерях. Во Франции дело было. – Старший брат отпил из стакана глоток, пожевал землисто-пепельными губами. – Бежал. Снова повезло – добрые люди связали с отрядом Сопротивления. Вместе с французскими ребятами бил гадов-захватчиков до самого прихода союзнических войск… Рыдал, рыдал, точно мальчишка, когда своих увидел. Думал, ну, скоро вернусь домой! Начну жену с детьми разыскивать. Живы ли? Ведь у меня четверо их. И все парни! А жена – не хвалясь зря – золото была. Да не тут-то было. В Башкирии завод нефтеперегонный строил… до пятидесятого года. – Андриян покашлял в кулак. – Бросим, пожалуй, об этом. К чему вам настроение омрачать?
– А дальше… что дальше-то было? – спросил взволнованно Прохор Силантьич. Пока говорил старший брат, он ни к чему на столе не притронулся.
Поглядел Андриян в распахнутое в сад окно. Отягченная крупными, наливными плодами, склонилась к подоконнику яблоневая ветка.
– Белый налив? – спросил он, устремляя взгляд на запунцовевшую Алену.
– Ой, извиняйте за недогадливость мою, – спохватясь, поспешно проговорила жена Прохора Силантьича. – Про яблочки-то и забыла. Я сейчас… У нас их – ешь не хочу! И на зиму впрок заготовляем, и малость продаем. Да еще цельную телегу в дом инвалидов отправляем – открыли такой после войны в Клопиках… Обождите, я моментом слетаю. Блюдо с верхом…
– Сидите, – улыбнулся гость. – Это я так… – И обратился к младшему брату: – Спрашиваешь, а дальше что?.. В Сталинград вернулся. На свой завод. Ведь до тридцать седьмого я институт без отрыва от производства закончил. Так что меня сразу в мастера определили. Сейчас начальником цеха работаю. Ездил вот в Междуреченск в командировку… Неделю отпуска взял за свой счет: надо ж, думаю, на родину завернуть! – Долго молчал, потирая ребром руки острый кадык. – Работал на заводе и всё справки наводил. Ничего утешительного. Первые мои ребята – они погодки были – на фронте сложили головы. А жена с другими двоими… они при эвакуации под бомбежку попали. Ну, а в пятьдесят третьем сошелся… На заводе же, в конструкторском, чертежницей работала. Сызнова повезло: не было семьи, а тут сразу целый детсад: три девчоночки! Муж этой моей жены, Маруси, летчиком был. Войну пережил, а в мирное время… при посадке самолета разбился… Через год Маруся мне сына – Дениса – подарила. Ну… ну, вот и всё. Как у попа на духу…
Андриян попытался рассмеяться, но закашлялся. На бесцветных ресницах выступили крупные слезины.
– Теперь уж ты, Проша, ты отчитывайся… Как вы тут… сестры все живы? В Утиных Двориках живут?
Прохор Силантьич, уставясь в пол, протянул натужно:
– Две сестры – Пелагея и Дарья, померли. Остальные после войны кто куда уехали. Одних мужья в Сызрань соблазнили, других дети – в Казань да Горький. Белоручки пошли людишки: всех в город на легкую жизнь тянет. В Двориках ни одной сестры не осталось. Ну, а я… а я что же?
Все по-прежнему глядя в пол и смахивая то и дело левой двупалой рукой бусинки пота со лба – день выдался на диво знойным, ну, прямо июль, да и только, Прохор Силантьич коротенько поведал о своей жизни. Потом он сам поражался: а ведь рассказать-то Андрияну о себе совсем нечего было!
В дни пребывания старшего брата на Крутели Прохор Силантьич возил его раз на недавно приобретенной моторке рыбачить, побывали они и в Утиных Двориках, где не нашлось ни одной души, знавшей Андрияна. Ещё на кордон, к дружку Прохора, шатались за щенком. У Прохора Силантьича незадолго до приезда брата околела собака, а у лесника Васи месяца полтора назад ощенилась овчарка, и тот обещал бакенщику кобелька.
Лобастый, здоровущий крепыш, когда его принесли домой, невзлюбил почему-то Андрияна Силантьича. Гладил он щенка по вздыбившейся спине, а тот, изловчившись внезапно, и цапнул гостя за палец.
– И презлющий будет у тебя, брат, кобель! — сказал Андриян, мотая рукой. – Надёжный вырастет страж твоей крепости. Назови-ка его Ноксом.
– Как, как? – переспросил Прохор Силантьич.
– Ноксом, говорю, назови. Был в Америке когда-то такой государственный деятель… до чрезмерности преданный империализму лютый пёс.
– Что ж, можно. Пусть будет Ноксом. В память о твоем приезде, – согласно закивал младший брат.
За день до своего отъезда Андриян Силантьич вдруг попросил Прохора свозить его на моторке к Бешеному оврагу, впадавшему в Суровку километрах в девяти-десяти ниже Клопиков.
– Чего ты там забыл? – удивился Прохор, спускаясь с братом под берег.
– Да так… так просто, – уклончиво обронил Андриян Силантьич.
И весь путь до Бешеного оврага и обратно молчал.
«На кой ему леший сдался этот овраг?» – подумал Прохор, когда старший брат, пытливо оглядев пустынно-снулую в этот знойный час Суровку, необычно широкую у заросшего тальником оврага, такого сейчас смирного и такого злобно бешеного в половодье, кивком попросил поворачивать назад.
Уезжая наутро, Андриян Силантьич оставил свой адрес. Обещал прислать письмо сразу же по возвращении домой. Но так и не прислал. Не собрался написать и Прохор Силантьич.
Постепенно и Прохор Силантьич, и Алена стали забывать о неожиданном приезде Андрияна, как забывают со временем тяжелый, дурной сон. И спокойное течение их жизни снова ничто не омрачало.
Порой Прохору Силантьичу казалось: так они и будут жить с Аленой долго-долго.
Но вот однажды под Новый год, возвратясь из Утиных Двориков с праздничными покупками (ездил в село вместе с лесником Васей на его Буланом), Прохор Силантьич был поражён, не увидев на крыльце жены. Обычно, едва заслышав заливисто-радостное тявканье вымахавшего с телка Нокса, бежала Алёна в сени, широко распахивая во двор дверь.
– Алёнушка! – негромко окликнул жену Прохор Силантьич, войдя на кухню и ставя на лавку тяжелые сумки.
Ему никто не ответил. Внезапно содрогаясь от предчувствия жуткой, неисходной беды, он бросился к двери в горницу, рванул её на себя и замер у порога.
Посреди горенки лежала навзничь его Алёна. В окаменевшей руке на отлете она сжимала любимый Прохором кашемировый полушалок с алыми розами по черному полю.
И тут впервые за всю свою жизнь заревел, по-бабьи причитая, Прохор Силантьич, упав на колени у изголовья бездыханной жены.
…Через несколько месяцев одинокой жизни он и посватался к телятнице совхоза хроменькой Наташе – молчаливой, замкнутой девушке-сироте, жившей у тетки Глафиры Дорофеевны, вдовы церковного старосты.
![]()