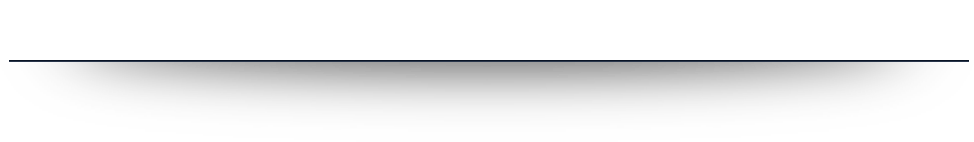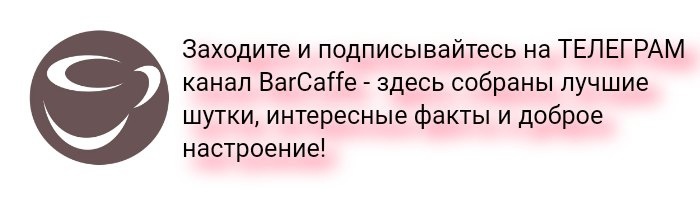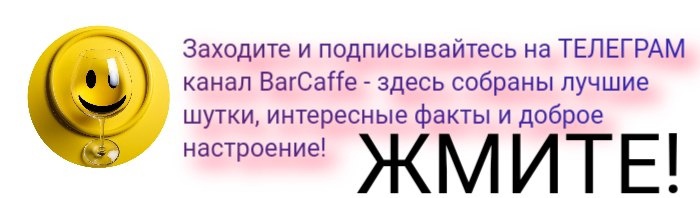Савельев вёз Лялю в город с тяжёлым сердцем. Не верилось ему, что эта изнеженная барыня не сбежит из зловонного барака в первый же час, и он, признаться, сам на это рассчитывал. Как бы ни была она ему симпатична, но нянчиться ещё и с ней, имея на руках до сотни тяжёлых больных, ему было недосуг. Однако он не представлял, чем ещё помочь её горю, и нехотя согласился. Ольга Константиновна настояла, чтобы с Лялей поехала старая нянька, и зять её поддержал.
Однако, вопреки ожиданиям, Ляля довольно быстро освоилась с своим новым положением. К концу первой недели она выполняла всё, что требовалось, не хуже опытных сестёр, а к тому ещё была неутомима и точна в движениях («Как машина!» — говорили все). В свой городской дом она возвращалась только переночевать и сменить одежду, да и то Савельеву приходилось едва ли не силой уводить её от больных. Сам он тоже квартировал у Шершиевичей, на чём с самого начала настоял Павел Егорович под полушутливым предлогом, что без господ прислуга теряет сноровку.
Здесь, в городском доме, многое напоминало о Глаше, и хотя предусмотрительная Антиповна убрала с глаз долой все девочкины вещи и игрушки, но на что бы ни упал Лялин взгляд, всюду она видела свою малютку: на диване, в кресле и за столом, у окна гостиной, куда та любила взбираться с ногами и смотреть на прохожих и экипажи, в зале, где кружила, раздувая юбочки нового платья… Поэтому Ляля старалась проводить дома как можно меньше времени и нарочно изматывала себя до упаду, чтобы, придя домой, тотчас замертво свалиться в постель. Она ненадолго успокаивалась только тогда, когда удавалось вырвать у смерти чью-то жизнь, особенно если то была жизнь ребёнка. Это давало ей силы.
Она потеряла счёт времени. Однажды утром, во время обхода, Савельев заметил, что впервые с начала карантина в бараке остались пустые койки: холера начинала отступать. Ляля внезапно почувствовала слабость. Она оперлась о стену и попыталась сосчитать, как долго уже здесь находится, как вдруг ощутила приступ дурноты. Мутило её и раньше, особенно на первых порах, но это случалось при виде или запахе человеческих отправлений, а теперь ничего такого не было, да и всё это давно стало привычным. Ляля принялась часто и глубоко дышать и сглатывать — обычно это помогало, но не теперь, и она едва успела выхватить из-под ближайшей койки ведро. Савельев и фельдшерица, Марфа Ильинична, уставились на неё в тревоге. Савельев потрогал ей лоб, но Ляля отмахнулась: ерунда! Однако спустя час, когда пили чай, приступ повторился.
— Елена Васильевна, ступайте домой! — строго велел Савельев.
Ляля хотела было возражать, но почувствовала себя не в силах спорить с доктором.
— Я лягу здесь, Пётр Игнатьич. Если я заразилась, мне лучше никуда не ходить.
— Будь по-вашему, — ответил Савельев, поразмыслив. В самом деле, здесь и помощь под рукой, и сам он сможет её наблюдать.
Ляле отгородили ширмой угол в бараке, рядом с окном, за которым шумел под августовским ветром городской сад. Она лежала совсем без сил и думала о том, что вот теперь скоро встретится со своей Глашей. Слёзы медленно стекали на подушку, и скоро волосы у виска и ситцевая наволочка совсем намокли. Довольно было протянуть руку, чтобы достать льняное полотенце, но не было сил даже на это. Иногда заглядывал кто-то из персонала, осматривали, трогали лоб и возвращались к другим больным. Ей смерили температуру — жара не было, даже напротив: на целый градус ниже положенного. Савельев почесал бровь, расспросил её о симптомах, нахмурился. Уходя на ночь, велел без промедления послать за собой, если Елене Васильевне станет хуже, и по дороге к дому Шершиевичей сделал крюк, чтобы дать телеграмму Павлу Егоровичу. Однако сам Шершиевич ждал его дома. Известие о болезни жены его встревожило, он порывался идти в лазарет и настаивал на том, чтобы перевезти её домой. Савельеву стоило труда уговорить его подождать до утра, но оба легли одетыми, чтобы сразу ехать, если за ними пришлют.
Ляля между тем наплакалась и заснула. Проснулась она посреди ночи от голода. Ей снился большой кусок жаркого, и она никак не могла до него дотянуться. Тогда она стала тянуть на себя скатерть, ухватилась за край блюда — и открыла глаза: в бараке царил полумрак, горела только керосиновая лампа на столе дежурной сестры, да кто-то стонал в дальнем конце помещения. Она спустила ноги с кровати, набросила капор и вышла из-за ширмы. Сестра спала за столом, положив голову на руки — это была молоденькая земская учительница, которую все звали Ташей. «Должно было остаться что-то после чая!» — подумала Ляля и, пошатываясь, направилась к двери.
— Елена Васильевна, голубушка, вы куда? — раздался за её спиной сонный голос Таши.
Ляля медленно повернулась.
— Таша, у нас не осталось чего-нибудь поесть?
— Сию минуту посмотрю, а вы ложитесь! Пётр Игнатьич вставать вам не велел!
Вскоре Таша вернулась с горячим сладким чаем и бутербродами, которые Ляля жадно принялась есть. Ей даже было совестно перед Ташей за эту жадность, но та, казалось, ничего не замечала, а только судорожно зевала и тёрла глаза. Насытившись, Ляля сказала:
— Поспите, Таша! Если будет надо, я вас разбужу.
— А вы как же?
— Я уже выспалась. Теперь третий час, скоро светать начнёт…
Шершиевич проснулся и увидел перед собой умытого и выбритого Савельева.
— Хотите, ждите меня здесь, — говорил тот, — Я кого-нибудь к вам пришлю с запиской.
Шершиевич вскочил.
— Нет-нет, я с вами!
— Тогда идёмте пить кофе, я велел вашей прислуге приготовить.
Через четверть часа они уже подходили к больнице. Савельев велел Павлу Егоровичу оставаться снаружи и ждать.
Он входил в барак не без волнения, уповая на то, что отсутствие новостей могло само по себе служить хорошей новостью. Первой его встретила сама Ляля: она была бледна, но твёрдо стояла на ногах, не было у ней заметно и других признаков недуга. Зато его осенила новая мысль, и он удивился, как она не пришла ему в голову раньше.
— Голубушка, скажите-ка вот что. Когда у вас были последний раз женские недомогания?
Ляля поднесла ладонь ко рту и уставилась на Савельева невидящим взглядом, глаза её становились всё больше и больше от усилия припомнить то, о чём он спрашивал. Минуту спустя она сдавленно прошептала:
— Не помню! — и бросилась к ближайшему ведру.
В. К. Стебницкий
***