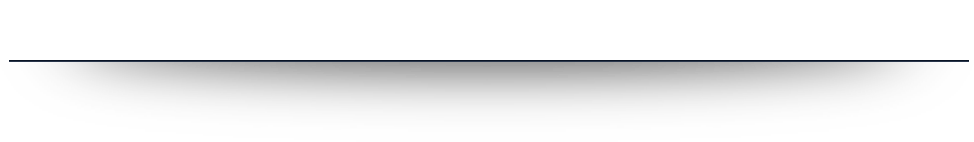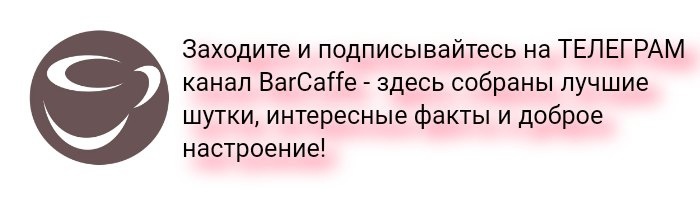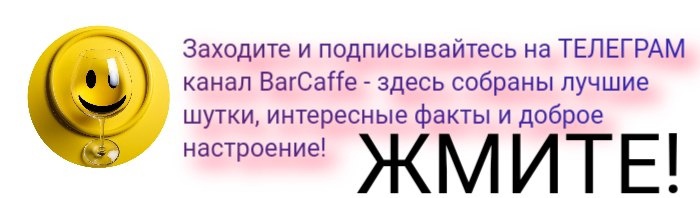Безвременная утрата дочери расколола Шершиевичей, каждый из них замкнулся в своём горе, будучи не в силах говорить о нём без того, чтобы не рвать сердце себе и другому. Через неделю после похорон Ляля уехала с Савельевым в город, а Павел Егорович вернулся к делам. С того времени они виделись от силы два раза, и обе встречи прошли в тягостном молчании.
Известие о том, что у них снова может быть ребёнок, растопило этот невольный лёд стоического безмолвия. Выйдя из барака, Ляля задержалась на пороге, и её взгляд, обращённый к мужу, выражал вопрос и вместе мольбу. В этом своём почти монашеском платье, осунувшаяся и бледная, она показалась Павлу Егоровичу прозрачным бесплотным духом. Он приблизился и протянул к ней руки, и она упала ему на грудь с последней ступеньки деревянного крыльца.
Серёжа родился зимой, в лютую стужу, в Алпатьеве, откуда Ляля не стала уезжать даже в Москву. Савельев не советовал им трогаться с места: половина губерний была всё ещё охвачена холерой и опасность заразиться в дороге, в условиях бивуачного быта, была много серьёзней, чем в своих стенах. Скорбь ещё была свежа и вылилась в сугубую осторожность, с какой Ляля стала относиться к будущему младенцу. Он ещё не появился на свет, а она уже старалась оградить его от всех возможных и воображаемых опасностей.
Её привязанность к новорождённому сыну на сторонний взгляд была естественной, и только родные замечали в ней некую чрезмерность. Она выражала себя в напряжённом внимании ко всем мелочам младенческого обихода, в невольной раздражительности, когда ей казалось, что прислуга заботится о мальчике без достаточного усердия — раздражительности, часто изливавшейся слезами.
Павел Егорович видел это, но надеялся, что со временем жена успокоится и её тревоги войдут в обычное русло, не более, чем это свойственно любой матери. Однако миновал год, а Ляля по-прежнему не спускала Серёжу с рук, стараясь каждую минуту держать его в поле своего зрения. Эти заботы она могла доверить только матери, и то на короткое время, когда Ольга Константиновна настойчиво отсылала её отдохнуть или прогуляться.
— Лялюша, ну как можно! Эдак он и ходить не научится! — урезонивала она дочь. Ляля понимала рассудком материну правоту, но уступала редко и с большой неохотой.
В конце концов Ольга Константиновна была вынуждена отнестись к зятю. Не без труда отослав Лялю на прогулку, они устроили совет, и было решено обратиться к авторитету Савельева. Доктору было послано приглашение, подкреплённое обстоятельным письмом и щедро оплаченное Шершиевичем, и на Святой неделе доктор прибыл в Алпатьево. Ляле было сказано, что Петр Игнатьич в уезде по делам, но эта невинная ложь была шита белыми нитками.
— Я очень вам рада, Пётр Игнатьич, но, право, не стоило вам пускаться в такой дальний путь по теперешней хляби ради прихоти моих родных. Они делают из мухи слона! — говорила она, обнимая доктора в передней, едва тот снял пальто.
— Не знаю, о чём вы говорите, — притворно буркнул Савельев, хмуря брови. — Разве у вас кто-то болен?
— Слава Богу, все здоровы, но маман и Павел забрали в голову, будто бы я страдаю нервами.
— Лялюша, будет тебе! Дай Петру Игнатьичу опомниться с дороги, — Ольга Константиновна протянула гостю обе руки. — Идёмте, вы озябли! Я велела подавать чай.
Всю неделю Савельев присматривался к Ляле, но от определённого заключения воздерживался. Она казалась и правда немного взвинченной, и даже когда сидела, откинувшись в покойных креслах, выглядела как заведённая пружина или чуткая птица, готовая вспорхнуть при малейшей тревоге. Но это можно было отнести на счёт обычного материнского беспокойства, говорил себе Савельев и старался смотреть на всё, как если бы он не получал письма от её родных. Он тщательно осмотрел мальчика сразу по приезде и нашёл его отменно здоровым. Ляля улыбнулась и обняла ребёнка, но пристально посмотрела на доктора поверх пушистой макушки сына.
Родные видели, что Ляля старается при госте держать себя в руках и не бежать каждую минуту в детскую, однако от них не укрылось то, каких ей это стоит усилий.
Всё разрешилось на пятый день. Семья и гость обедали, когда мимо столовой прошла Серёжина нянька, направляясь из детской в сторону кухни.
— Луша, вы куда? — воскликнула Ляля громче, чем это требовалось.
Нянька вернулась и остановилась в дверях.
— Не извольте беспокоиться, барыня, Сергей Павлович заснули-с…
— Кто с ним теперь? — настойчиво допытывалась Ляля.
— Никого-с, но я только на минутку и сразу вернусь…
Ляля вскочила, бросила салфетку, и, не извинившись, вышла мимо няньки, едва успевшей посторониться. Нянька растерянно поглядела на Ольгу Константиновну и Шершиевича.
— Ступайте, куда шли, Луша, — велел Павел Егорович, посмотрел на Савельева и отправился следом за женой. Было слышно, как затворилась за ним дверь детской и наступила непродолжительная тишина. Спустя несколько напряжённых минут снова заскрипели двери и половицы, раздались приглушённые голоса: увещевающий Шершиевича и резкий, срывающийся Лялин. Ольга Константиновна и Савельев переглянулись и поднялись.
Супруги обнаружились в кабинете, который располагался поодаль от детской. Ляля сидела на краю кожаного дивана, закрыв лицо руками, и судорожно рыдала, выкрикивая бессвязные обрывки фраз:
— Я не позволю! Не позволю! Глашеньку прозевали, а Серёжу я вам не дам!
Шершиевич сидел рядом, прижимая к себе жену, и раскачивал её, словно баюкал.
— Шшшш! Родная, будет! Мальчик спит, ты его испугаешь! — приговаривал он, целуя её волосы.
Савельев был вынужден признать, что беспокойство родных Елены Васильевны не лишено оснований, прописал микстуру и посоветовал для начала переменить обстановку.
В. К. Стебницкий
***