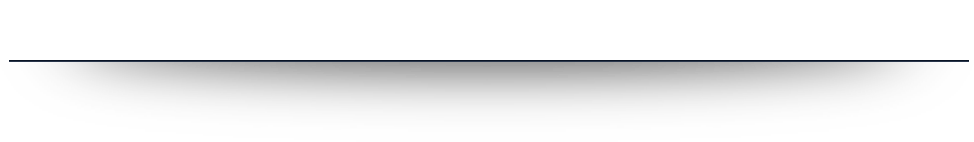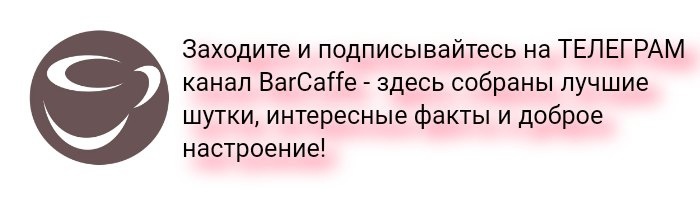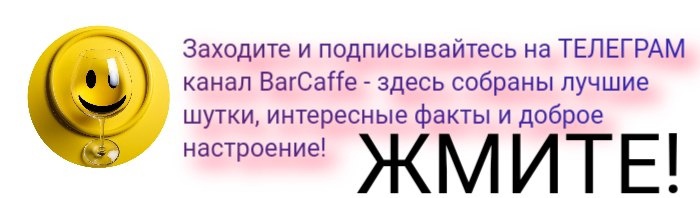![]()
Духа иногда гораздо легче
вызвать, чем от него избавиться.
А. Б. Калмет
Глава первая
Странное приключение, которое я намерен рассказать, имело место несколько лет тому назад, и теперь оно может быть свободно рассказано, тем более что я выговариваю себе право не называть при этом ни одного собственного имени.
Зимою 186* года в Петербург прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее из трёх лиц: матери — пожилой дамы, княгини, слывшей женщиною тонкого образования и имевшей наилучшие светские связи в России и за границею; сына её, молодого человека, начавшего в этот год служебную карьеру по дипломатическому корпусу, и дочери, молодой княжны, которой едва пошёл семнадцатый год.
Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границею, где покойный муж старой княгини занимал место представителя России при одном из второстепенных европейских дворов. Молодой князь и княжна родились и выросли в чужих краях, получив там вполне иностранное, но очень тщательное образование.
Глава вторая
Княгиня была женщина весьма строгих правил и заслуженно пользовалась в обществе самой безукоризненной репутацией. В своих мнениях и вкусах она придерживалась взглядов прославленных умом и талантами французских женщин времён процветания женского ума и талантов во Франции. Княгиню считали очень начитанною и говорили, что она читает с величайшим разбором. Самое любимое её чтение составляли письма г-жи Савиньи, Лафает и Ментенон, а также Коклюс и Данго Куланж, но всех больше она уважала г-жу Жанлис, к которой она чувствовала слабость, доходившую до обожания. Маленькие томики прекрасно сделанного в Париже издания этой умной писательницы, скромно и изящно переплетённые в голубой сафьян, всегда помещались на красивой стенной этажерке, висевшей над большим креслом, которое было любимым местом княгини. Над перламутровой инкрустацией, завершавшей самую этажерку, свешиваясь с тёмной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная из terracota миниатюрная ручка, которую целовал в своём Фернее Вольтер, не ожидавший, что она уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики. Как часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней под рукою, и княгиня говорила, что они имеют для неё особенное, так сказать таинственное значение, о котором она не всякому решилась бы рассказывать, потому что этому не всякий может поверить. По её словам выходило, что она не расстаётся с этими волюмами «с тех пор, как себя помнит», и что они лягут с нею в могилу.
— Мой сын, — говорила она, — имеет от меня поручение положить книжечки со мной в гроб, под мою гробовую подушку, и я уверена, что они пригодятся мне даже после смерти.
Я осторожно пожелал получить хотя бы самые отдалённые объяснения по поводу последних слов, — и получил их.
— Эти маленькие книги, — говорила княгиня, — напоены духом Фелиситы (так она называла m-me Genlis, вероятно в знак короткого с нею общения). Да, свято веря в бессмертие духа человеческого, я также верю и в его способность свободно сноситься из-за гроба с теми, кому такое сношение нужно и кто умеет это ценить. Я уверена, что тонкий флюид Фелиситы избрал себе приятное местечко под счастливым сафьяном, обнимающим листки, на которых опочили её мысли, и если вы не совсем неверующий, то я надеюсь, что вам это должно быть понятно.
Я молча поклонился. Княгине, по-видимому, понравилось, что я ей не возражал, и она в награду мне прибавила, что всё, ею мне сейчас сказанное, есть не только вера, но настоящее и полное убеждение, которое имеет такое твёрдое основание, что его не могут поколебать никакие силы.
— И это именно потому, — заключила она, — что я имею множество доказательств, что дух Фелиситы живёт, и живёт именно здесь!
При последнем слове княгиня подняла над головою руку и указала изящным пальцем на этажерку, где стояли голубые волюмы.
Глава третья
Я от природы немножко суеверен и всегда с удовольствием слушаю рассказы, в которых есть хотя какое-нибудь место таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислявшая меня по разным дурным категориям, одно время говорила, будто я спирит.
Притом же, к слову сказать, всё, о чем мы теперь говорим, происходило как раз в такое время, когда из-за границы к нам приходили в изобилии вести о спиритических явлениях. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видал причины не интересоваться тем, во что начинают верить люди.
«Множество доказательств», о которых упоминала княгиня, можно было слышать от неё множество раз: доказательства эти заключались в том, что княгиня издавна образовала привычку в минуты самых разнообразных душевных настроений обращаться к сочинениям г-жи Жанлис как к оракулу, а голубые волюмы, в свою очередь, обнаруживали неизменную способность разумно отвечать на её мысленные вопросы.
Это, по словам княгини, вошло в её «абитюды», которым она никогда не изменяла, и «дух», обитающий в книгах, ни разу не сказал ей ничего неподходящего.
Я видел, что имею дело с очень убеждённой последовательницей спиритизма, которая притом не обделена умом, опытностью и образованием, и потому чрезвычайно всем этим заинтересовался.
Мне было уже известно кое-что из природы духов, и в том, чему мне доводилось быть свидетелем, меня всегда поражала одна общая всем духам странность, что они, являясь из-за гроба, ведут себя гораздо легкомысленнее и, откровенно сказать, глупее, чем проявляли себя в земной жизни.
Я уже знал теорию Кардека о «шаловливых духах» и теперь крайне интересовался: как удостоит себя показать при мне дух остроумной маркизы Сюльери, графини Брюсляр?
Случай к тому не замедлил, но, как и в коротком рассказе, так же как в маленьком хозяйстве, не нужно портить порядка, то я прошу ещё минуту терпения, прежде чем довести дело до сверхъестественного момента, способного превзойти всяческие ожидания.
Глава четвёртая
Люди, составлявшие небольшой, но очень избранный круг княгини, вероятно, знали её причуды; но, как всё это были люди воспитанные и учтивые, то они умели уважать чужие верования, даже в том случае, если эти верования резко расходились с их собственными и не выдерживали критики. А потому никто и никогда с княгиней об этом не спорил. Впрочем, может быть и то, что друзья княгини не были уверены в том, что она считает свои голубые волюмы обиталищем «духа» их автора в прямом и непосредственном смысле, а принимали эти слова как риторическую фигуру. Наконец, может быть и ещё проще, то есть что они принимали всё это за шутку.
Один, кто не мог смотреть на дело таким образом, к сожалению, был я; и я имел к тому свои основания, причины которых, может быть, кроются в легковерии и впечатлительности моей натуры.
Глава пятая
Вниманию этой великосветской дамы, которая открыла мне двери своего уважаемого дома, я был обязан трём причинам: во-первых, ей почему-то нравился мой рассказ «Запечатлённый ангел», незадолго перед тем напечатанный в «Русском вестнике»; во-вторых, её заинтересовало ожесточённое гонение, которому я ряды лет, без числа и меры, подвергался от моих добрых литературных собратий, желавших, конечно, поправить мои недоразумения и ошибки, и, в-третьих, княгине меня хорошо рекомендовал в Париже русский иезуит, очень добрый князь Гагарин — старик, с которым мы находили удовольствие много беседовать и который составил себе обо мне не наихудшее мнение.
Последнее было особенно важно, потому что княгине было дело до моего образа мыслей и настроения; она имела, или по крайней мере ей казалось, будто она может иметь, надобность в небольших с моей стороны услугах. Как это ни странно для человека такого скромного значения, как я, это было так. Надобность эту княгине сочинила её материнская заботливость о дочери, которая совсем почти не знала по-русски… Привозя прелестную девушку на родину, мать хотела найти человека, который мог бы сколько-нибудь ознакомить княжну с русскою литературою, — разумеется, исключительно хорошею, то есть настоящею, а не заражённою «злобою дня».
О последней княгиня имела представления самые смутные и притом до крайности преувеличенные. Довольно трудно было понять, чего именно она боялась со стороны современных титанов русской мысли, — их ли силы и отваги, или их слабости и жалкого самомнения; но, улавливая кое-как, с помощью наведения и догадок, «головки и хвостики» собственных мыслей княгини, я пришёл к безошибочному, на мой взгляд, убеждению, что она всего определительнее боялась «нецеломудренных намёков», которыми, по её понятиям, была вконец испорчена вся наша нескромная литература.
Разуверять в этом княгиню было бесполезно, так как она была в том возрасте, когда мнения уже сложились прочно и очень редко кто способен подвергать их новому пересмотру и поверке. Она, несомненно, была не из этих, и, чтобы её переуверить в том, во что она уверовала, недостаточно было слова обыкновенного человека, а это могло быть по силам разве духу, который счёл бы нужным прийти с этою целью из ада или из рая. Но могут ли подобные мелкие заботы занимать бесплотных духов безвестного мира; не мелки ли для них все, подобные настоящему, споры и заботы о литературе, которую и несравненно большая доля живых людей считает пустым занятием пустых голов?
Обстоятельства, однако, скоро показали, что, рассуждая таким образом, я очень грубо заблуждался. Привычка к литературным прегрешениям, как мы скоро увидим, не оставляет литературных духов и за гробом, а читателю будет предстоять задача решить: в какой мере эти духи действуют успешно и остаются верны своему литературному прошлому.
Глава шестая
Благодаря тому, что княгиня имела на всё строго сформированные взгляды, моя задача помочь ей в выборе литературных произведений для молодой княжны была очень определительна. Надо было, чтобы княжна могла из этого чтения узнавать русскую жизнь, и притом не встретить ничего, что могло бы смутить девственный слух. Материнскою цензурой княгини целиком не допускался ни один автор, ни даже Державин и Жуковский. Все они ей представлялись не вполне надёжными. О Гоголе, разумеется, нечего было и говорить, — он целиком изгонялся. Из Пушкина допускались: «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин», но последний с значительными урезками, которые собственноручно отмечала княгиня. Лермонтов не допускался, как и Гоголь. Из новейших одобрялся несомненно один Тургенев, но и то кроме тех мест, «где говорят о любви», а Гончаров был изгнан, и хотя я за него довольно смело заступался, но это не помогло, княгиня отвечала:
— Я знаю, что он большой художник, но это тем хуже, — вы должны признать, что у него есть разжигающие предметы.
Глава седьмая
Я во что бы то ни стало хотел знать: что такое именно разумеет княгиня под разжигающими предметами, которые она нашла в сочинениях Гончарова. Чем он мог, при его мягкости отношений к людям и обуревающим их страстям, оскорбить чье бы то ни было чувство?
Это было до такой степени любопытно, что я напустил на себя смелость и прямо спросил, какие у Гончарова есть разжигающие предметы?
На этот откровенный вопрос я получил откровенный же, острым шёпотом произнесённый, односложный ответ: «локти».
Мне показалось, что я не вслушался или не понял.
— Локти, локти, — повторила княгиня и, видя мое недоразумение, как будто рассердилась. — Неужто вы не помните… как его этот… герой где-то… там засматривается на голые локти своей… очень простой какой-то дамы?
Теперь я, конечно, вспомнил известный эпизод из «Обломова» и не нашёл ответить ни слова. Мне, собственно, тем удобнее было молчать, что я не имел ни нужды, ни охоты спорить с недоступною для переубеждений княгинею, которую я, по правде сказать, давно гораздо усерднее наблюдал, чем старался служить ей моими указаниями и советами. И какие указания я мог ей сделать после того, как она считала возмутительным неприличием «локти», а вся новейшая литература шагнула в этих откровениях несравненно далее?
Какую надо было иметь смелость, чтобы, зная всё это, назвать хотя одно новейшее произведение, в которых покровы красоты приподняты гораздо решительнее!
Я чувствовал, что, при таком раскрытии обстоятельств, моя роль советчика должна быть кончена, — и решился не советовать, а противоречить.
— Княгиня, — сказал я, — мне кажется, что вы несправедливы: в ваших требованиях к художественной литературе есть преувеличение.
Я изложил ей всё, что, по моему мнению, относилось к делу.
Глава восьмая
Увлекаясь, я произнёс не только целую критику над ложным пуризмом, но и привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «culotte» {штаны (франц.)}, но зато, когда ей однажды неизбежно пришлось выговорить это слово при королеве, она запнулась и тем заставила всех расхохотаться. Но я никак не мог вспомнить: у кого из французских писателей мне пришлось читать об ужасном придворном скандале, которого совсем бы не произошло, если бы дама выговорила слово «culotte» так же просто, как выговаривала его своими августейшими губками сама королева.
Цель моя была показать, что излишняя щепетильность может служить во вред скромности и что поэтому чересчур строгий выбор чтения едва ли нужен.
Княгиня, к немалому моему изумлению, выслушала меня, не обнаруживая ни малейшего неудовольствия, и, не покидая своего места, подняла над головою свою руку и взяла один из голубых волюмов.
— У вас, — сказала она, — есть доводы, а у меня есть оракул.
— Я, — говорю, — интересуюсь его слышать.
— Это не замедлит: я призываю дух Genlis, и он будет отвечать вам. Откройте книгу и прочтите.
— Потрудитесь указать, где я должен читать? — спросил я, принимая волюмчик.
— Указать? Это не мое дело: дух сам вам укажет. Раскройте где попало.
Мне это становилось немножко смешно и даже как будто стыдно за мою собеседницу; однако я сделал так, как она хотела, и только что окинул глазом первый период раскрывшейся страницы, как почувствовал досадительное удивление.
— Вы смущены? — спросила княгиня.
— Да.
— Да; это бывало со многими. Я прошу вас читать.
Глава девятая
«Чтение — занятие слишком серьёзное и слишком важное по своим последствиям, чтобы при выборе его не руководить вкусами молодых людей. Есть чтение, которое нравится юности, но оно делает их беспечными и предрасполагает к ветрености, после чего трудно исправить характер. Всё это я испытала на опыте». Вот что прочёл я, и остановился.
Княгиня с тихой улыбкой развела руками и, деликатно торжествуя надо мною свою победу, проговорила:
— По-латыни это, кажется, называется dixi? {я высказался (лат.)}
— Совершенно верно.
С тех пор мы не спорили, но княгиня не могла отказать себе в удовольствии поговорить иногда при мне о невоспитанности русских писателей, которых, по её мнению, «никак нельзя читать вслух без предварительного пересмотра».
О «духе» Genlis я, разумеется, серьёзно не думал. Мало ли что говорится в этом роде.
Но «дух» действительно жил и был в действии, и вдобавок, представьте, что он был на нашей стороне, то есть на стороне литературы. Литературная природа взяла в нём верх над сухим резонёрством и, неуязвимый со стороны приличия, «дух» г-жи Жанлис, заговорив du fond du coeur {из глубины сердца (франц.)}, отколол (да, именно отколол) в строгом салоне такую школярскую штуку, что последствия этого были исполнены глубокой трагикомедии.
Глава десятая
У княгини раз в неделю собирались вечером к чаю «три друга». Это были достойные люди, с отличным положением. Два из них были сенаторы, а третий — дипломат. В карты, разумеется, не играли, а беседовали.
Говорили обыкновенно старшие, то есть княгиня и «три друга», а я, молодой князь и княжна очень редко вставляли свое слово. Мы более поучались, и, к чести наших старших, надо сказать, что у них было чему поучиться, — особенно у дипломата, который удивлял нас своими тонкими замечаниями.
Я пользовался его расположением, хотя не знаю за что. В сущности, я обязан думать, что он считал меня не лучше других, а в его глазах «литераторы» были все «одного корня». Шутя он говорил: «И лучшая из змей есть всё-таки змея».
Глава одиннадцатая
Будучи стоически верна своим друзьям, княгиня не хотела, чтобы такое общее определение распространялось и на г-жу Жанлис и на «женскую плеяду», которую эта писательница держала под своей защитою. И вот, когда мы собрались у этой почтенной особы встречать тихо Новый год, незадолго до часа полночи у нас зашёл обычный разговор, в котором опять упомянуто было имя г-жи Жанлис, а дипломат припомнил свое замечание, что «и лучшая из змей есть всё-таки змея».
— Правила без исключения не бывает, — сказала княгиня.
Дипломат догадался — кто должен быть исключением, и промолчал.
Княгиня не вытерпела и, взглянув по направлению к портрету Жанлис, сказала:
— Какая же она змея!
Но искушенный жизнью дипломат стоял на своём: он тихо помавал пальцем и тихо же улыбался, — он не верил ни плоти, ни духу.
Для решения несогласия, очевидно, нужны были доказательства, и тут-то способ обращения к духу вышел кстати.
Маленькое общество было прекрасно настроено для подобных опытов, а хозяйка сначала напомнила о том, что мы знаем насчёт её верований, а потом и предложила опыт.
— Я отвечаю, — сказала она, — что самый придирчивый человек не найдет у Жанлис ничего такого, чего бы не могла прочесть вслух самая невинная девушка, и мы это сейчас попробуем.
Она опять, как в первый раз, закинула руку к помещавшейся так же над её этаблисманом этажерке, взяла без выбора волюм — и обратилась к дочери:
— Мое дитя! раскрой и прочти нам страницу.
Княжна повиновалась.
Мы все изображали собою серьёзное ожидание.
Глава двенадцатая
Если писатель начинает обрисовывать внешность выведенных им лиц в конце своего рассказа, то он достоин порицания; но я писал эту безделку так, чтобы в ней никто не был узнан. Поэтому я не ставил никаких имен и не давал никаких портретов. Портрет же княжны и превышал бы мои силы, так как она была вполне, что называется, «ангел во плоти». Что же касается всесовершенной её чистоты и невинности, — она была такова, что ей можно было даже доверить решить неодолимой трудности богословский вопрос, который вели у Гейне «Bernardiner und Rabiner» {Бернардинец и раввин (нем.)}. За эту не причастную ни к какому греху душу, конечно, должно было говорить нечто, стоящее превыше мира и страстей. И княжна, с этою именно невинностью, прелестно грассируя, прочитала интересные воспоминания Genlis о старости madame Dudeffand, когда она «слаба глазами стала». Запись говорила о толстом Джиббоне, которого французской писательнице рекомендовали как знаменитого автора. Жанлис, как известно, скоро его разгадала и едко осмеяла французов, увлечённых дутой репутацией этого иностранца.
Далее я привожу по известному переводу с французского подлинника, который читала княжна, способная решить спор между «Bernardiner und Rabiner».
«Джиббон мал ростом, чрезвычайно толст и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем не видно; две жирные, толстые щёки, похожие чёрт знает на что, поглощают всё… Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы мало-мальски прилична для самых больших щёк; каждый, увидав их, должен был бы удивляться: зачем это место помещено не на своём месте. Я бы характеризовала лицо Джиббона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозен, который был очень короток с Джиббоном, привёл его однажды к Dudeffand. M-me Dudeffand тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом она усвояла себе довольно верное понятие о чертах нового знакомца. К Джиббону она приложила тот же осязательный способ, и это было ужасно. Англичанин подошёл к креслу и особенно добродушно подставил ей своё удивительное лицо. M-me Dudeffand приблизила к нему свои руки и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чём бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев и, наконец, она, быстро отдёрнув с гадливостью свои руки, вскричала: «Какая гадкая шутка!»
Глава тринадцатая
Здесь был конец и чтению, и беседе друзей, и ожидаемой встрече наступающего года, потому что, когда молодая княжна, закрыв книгу, спросила: «Что такое показалось m-me Dudeffand?», то лицо княгини было столь страшно, что девушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась в другую комнату, откуда сейчас же послышался её плач, похожий на истерику.
Брат побежал к сестре, и в ту же минуту широким шагом поспешила туда княгиня.
Присутствие посторонних людей было теперь некстати, и потому все «три друга» и я сию же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встречи Нового года бутылка вдовы Клико осталась завернутою в салфетку, но не раскупоренною.
Глава четырнадцатая
Чувства, с которыми мы расходились, были томительны, но не делали чести нашим сердцам, ибо, содержа на лицах усиленную серьёзность, мы едва могли хранить разрывавший нас смех и не в меру старательно наклонялись, отыскивая свои галоши, что было необходимо, так как прислуга тоже разбежалась, по случаю тревоги, поднятой внезапной болезнью барышни.
Сенаторы сели в свои экипажи, а дипломат прошёлся со мною пешком. Он хотел освежиться и, кажется, интересовался узнать моё незначащее мнение о том, что могло представиться мысленным очам молодой княжны после прочтения известного нам места из сочинений m-me Жанлис?
Но я решительно не смел делать об этом никаких предположений.
Глава пятнадцатая
С несчастного дня, когда случилось это происшествие, я не видал более ни княгини, ни её дочери. Я не мог решиться идти поздравить её с Новым годом, а только послал узнать о здоровье молодой княжны, но и то с большою нерешительностью, чтоб не приняли этого в другую сторону. Визиты же «кондолеансы» мне казались совершенно неуместными. Положение было преглупое: вдруг перестать посещать знакомый дом выходило грубостью, а явиться туда — тоже казалось некстати.
Может быть, я был и неправ в своих заключениях, но мне они казались верными; и я не ошибся: удар, который перенесла княгиня под Новый год от «духа» г-жи Жанлис, был очень тяжёл и имел серьёзные последствия.
Глава шестнадцатая
Около месяца спустя я встретился на Невском с дипломатом: он был очень приветлив, и мы разговорились.
— Давно не видал вас, — сказал он.
— Негде встречаться, — отвечал я.
— Да, мы потеряли милый дом почтенной княгини: она, бедняжка, должна была уехать.
— Как, — говорю, — уехать… Куда?
— Будто вы не знаете?
— Ничего не знаю.
— Они все уехали за границу, и я очень счастлив, что мог устроить там её сына. Этого нельзя было не сделать после того, что тогда случилось… Какой ужас! Несчастная, вы знаете, она в ту же ночь сожгла все свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, от которой, впрочем, кажется, уцелел на память один пальчик, или, лучше сказать, шиш. Вообще пренеприятное происшествие, но зато оно служит прекрасным доказательством одной великой истины.
— По-моему, даже двух и трёх.
Дипломат улыбнулся и, смотря мне в упор, спросил
— Каких-с?
— Во-первых, это доказывает, что книги, о которых мы решаемся говорить, нужно прежде прочесть.
— А во-вторых?
— А во-вторых, — что неблагоразумно держать девушку в таком детском неведении, в каком была до этого случая молодая княжна; иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о Джиббоне.
— И в-третьих?
— В-третьих, что на духов так же нельзя полагаться, как и на живых людей.
— И всё не то: дух подтверждает одно моё мнение, что «и лучшая из змей есть всё-таки змея» и притом, чем змея лучше, тем она опаснее, потому что держит свой яд в хвосте.
Если бы у нас была сатира, то это для неё превосходный сюжет.
К сожалению, не обладая никакими сатирическими способностями, я могу передать это только в простой форме рассказа.
![]()
Маленький метатекстуальный шедевр Лескова
1
Речь пойдет о рассказе «Дух госпожи Жанлис. Спиритический случай» (1881; 7: 79—92[1]; далее — ДГЖ), до недавнего времени не избалованном вниманием исследователей[2], несмотря на повествовательный блеск и представительность как образца лесковской поэтики. По жанру он принадлежит к святочной серии Лескова, по композиции — к числу его динамичных коротких новелл (а не рыхлых повестей), по литературной ориентации — к открыто интертекстуальным этюдам и литературным анекдотам, по типу сюжета — к фарсовым посрамлениям антигероя, по стилистической манере — к «авторским» полудокументам-полувымыслам, по мотивному репертуару — одновременно к упражнениям на словесные темы и к шокирующим демонстрациям «голой правды».
Вкратце его сюжет таков:
Автор посещает вернувшуюся из-за границы княгиню, исповедующую культ мадам де Жанлис (и целой плеяды французских писательниц XVII—XVIII вв.) и поклоняющуюся ее портрету, терракотовому изваянию ее руки и собранию ее сочинений, по которому любит гадать, как бы вызывая ее дух. Она ценит автора за повесть «Запечатленный ангел» и советуется с ним о круге чтения для своей несовершеннолетней дочери, требуя исключить все нецеломудренное — практически всю русскую литературу. На призыв умерить цензорский пыл она отвечает обращением к оракулу, и наугад выбранный абзац из Жанлис подтверждает ее правоту, глася, что юным читателям не следует давать ничего рискованного. Автор отчаивается переубедить княгиню.
Однажды в новогодний вечер на обращение к оракулу ее подталкивает другой гость, дипломат. Он заявляет, что все литераторы, особенно женщины, — змеи, и даже лучшая из змей все-таки змея. Уверенная, что Жанлис выше подозрений, княгиня поручает дочери прочесть вслух первый попавшийся кусок из ее сочинений. Им оказывается воспоминание о том, как к ослепшей маркизе дю Деффан приводят Гиббона и та по своему обыкновению начинает ощупывать лицо нового знакомого. Но оно заплыло жиром и, намекает мемуаристка, может быть принято за задницу — вывод, к которому и приходит дю Деффан, восклицающая: «Какая гадкая шутка!» Княжна не понимает этих слов, но, взглянув в полные ужаса глаза матери, с криком убегает. Гости расходятся, новогоднее шампанское остается нераспитым, а вскоре княгиня, предав огню книги Жанлис и разбив терракотовую ручку, со всем семейством уезжает за границу.
Рассказ поражает шикарным разбросом материала: в повествование вовлекаются святки и спиритизм, злободневность и прошлые века, Россия и заграница, французы и англичанин, феминизм и женоненавистничество, педагогика и литература, цитаты из Пушкина, Крылова, Гейне и других авторов и собственное лесковское творчество. Каков же тематический стержень этого разнообразия?
2
Прежде всего, конечно, не святочность и не спиритизм, щедро выставленные напоказ[3]. К рождественской неделе рассказ был приурочен лишь при включении в сборник святочных рассказов 1886 года. Не всерьез назван он в подзаголовке и спиритическим, хотя о спиритизме Лесков писал — в основном негативно[4]. Как святочное гадание, так и спиритические опыты лукаво подменены в ДГЖ гаданием по любимой книге[5]. «Женская» тема, хорошо согласованная с образом главной героини и провокационным бесстыдством кульминации, тоже лишь маскирует суть рассказа.
На уровне авторских инвариантов центральным нервом повествования является, конечно, провал догматического упрямства героини, принадлежащей к богатой лесковской галерее «последователей» тех или иных авторитетов[6]. Посрамление упрямца, требующего, чтобы окружающие и сама жизнь подчинились его доктринерским воззрениям — религиозным, идеологическим, моральным или эстетическим, — излюбленный сюжет Лескова[7].
Что касается локальной темы — того особого угла зрения, под которым общелесковский инвариант подается в данном случае, — то ею естественно считать мотив, наиболее настойчиво варьируемый в тексте: проблематику «чтения, образования, литературного воспитания»[8].
Слова, производные от корня читать, встречаются в рассказе более 20 раз; так же часто — собственные имена писателей; приводится полтора десятка литературных цитат и заглавий. Семантическое гнездо «литература» (рассказ, трагикомедия, книга, страница, сочинитель, писать, напечатанный…) представлено восемью десятками вхождений, а «воспитательное» гнездо (образование, мнение, неведение, ознакомить, верования, переубеждать, цензура, критика, резонерство…) — более чем семью десятками. Около 30 раз в тексте называется источник авторитетных суждений — дух (и его синонимы: оракул, сноситься из-за гроба и т. п.).
Естественным совмещением инвариантной темы с локальной служит готовый мотив «мать следит за благопристойностью читаемого дочерью»[9]. В пользу «литературно-воспитательной» темы говорит и ее включение в четко артикулированную мораль рассказа:
— Во-первых, это доказывает, что книги, о которых мы решаемся говорить, нужно прежде прочесть… А во-вторых, что неблагоразумно держать девушку в таком детском неведении… иначе она… гораздо раньше бы остановилась читать о Джиббоне (в цитатах полужирный шрифт везде мой. — А.Ж.).
При этом доктринерское упрямство княгини воспитательно в квадрате: если другие лесковские антигерои упорствуют в зверствах, пьянстве, предательстве, то она упорствует в своем представлении о том, какие представления допустимо иметь ее дочери, черпая из книг Жанлис указания о том, какие книги можно рекомендовать. Металитературный интерес Лескова к Жанлис оборачивается металитературным применением ее текстов его героиней.
К образовательной мотивике примыкает кульминационное «(не)узнавание в ходе ощупывания», венчаемое его «(не)осознанием» княжной и финальным «перевоспитанием» самой воспитательницы. Ощупывание, в силу своей осязательной природы, не просто варьирует образовательную тему, но и медиирует между ее полюсами: «абстрактным, духовным, подцензурным» и «конкретным, физическим, шокирующим». И этот телесный перформанс предстает в рассказе как эманация почитаемого героиней духа!
3
Разумеется, формулировка темы, особенно темы, осциллирующей между противоположными полюсами, всегда остается предварительной. Исследователи Лескова отмечают его амбивалентность и приверженность разнообразной технике дистанцирования от изображаемого, в частности — от сексуальной тематики, недаром многие его «праведники» по-монашески бесполы. Однако это дистанцирование носит сугубо ценностный характер: изображения сексуальности Лесков вовсе не избегает, а лишь старательно подает его «вчуже» — отстраненно, сказово, экзотично. Запретные темы влекут его, и он поддается этому влечению, но принимает меры к его нарративному вытеснению и сублимации. Из двух мерцающих полюсов темы ДГЖ, воспитательного и телесного, ведущим, и потому сублимируемым, является телесный.
Шокирующее лицезрение «правды жизни» — распространенный прием, особенно уместный в кульминации. Вспомним: удар хлыста по обнаженной руке Зинаиды в «Первой любви» Тургенева; окровавленную спину прогоняемого сквозь строй солдата в «После бала» Толстого; прыжок и вампирское вгрызание в шею соперника в «Ди Грассо» Бабеля.
У Лескова тоже нередко подобное предъявление «голой правды».
В «Продукте природы» поворотным моментом становится зрелище покрытой вшами груди кормящей матери, опровергающее обвинение одного из персонажей в приставании к ней:
[О]становясь возле одной молодой женщины, кормившей грудью ребенка, [он] с бесстыжею наглостью осветил ее раскрытую грудь своим фонарем. По груди что-то серело, точно тюль, и эта тюль двигалась, смешиваясь у соска с каплями синего молока, от которого отпал ребенок…
— Как не поверить, что мой сын на этакую прелесть польстится! (гл. 8; 9: 351).
В «Мелочах архиерейской жизни» гинеколог должен применить свои акушерские инструменты, чтобы освободить архиерея от затянувшегося запора (гл. 7; 7: 441—443).
В «Леди Макбет Мценского уезда», и без того сексуально откровенной, примечателен момент публичной порки героев: «…палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками» (гл. 12; 1: 131).
А в повести «Смех и горе» родственницу нелюдимого самодура, дяди рассказчика, упорно настаивающую на встрече, ожидает, после ряда нарративных отсрочек, фарсовый провал, сопряженный с игрой слов и демонстрацией голого тела:
Верстах в сорока от него жила его… тетка… которая лет пять сряду ждала к себе племянника и, не дождавшись… решила сама навестить его. Для этого визита она выбрала день его рождения… Дядя… выслал дворецкого объявить… что он не знает, по какому бы такому делу им надобно было свидеться… Дворецкий… возвратился… с докладом, что старая княжна приехала к нему, как к новорожденному. Дядя… выслал… дворецкого с… ответом, что князь, мол, рождению своему не радуются… так как новый год для них не что иное, как шаг к смерти. Но княжна… велела передать… что… не уедет, пока не увидит новорожденного. Тогда князь… разоблачился донага и вышел к гостье в чем его мать родила.
— Вот, мол, государыня тетушка, каков я родился!
Княжна давай бог ноги, а он в этом же райском наряде выпроводил ее на крыльцо до самого экипажа (гл. 8; 3: 399)[10].
В ДГЖ именно телесный эпизод оказывается вершиной композиции — долго скрывавшимся и, наконец, обнажаемым — правда, и тут не полностью, а сквозь покров недоговоренностей — заветным locus amoenus, точкой G всего повествования, пиком plaisir de texte:
Джиббон мал ростом, чрезвычайно толст и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем не видно; две жирные, толстые щеки, похожие черт знает на что, поглощают все… Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы мало-мальски прилична для самых больших щек; каждый, увидав их, должен был бы удивляться: зачем это место помещено не на своем месте. Я бы характеризовала лицо Джиббона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозен, который был очень короток с Джиббоном, привел его однажды к Dudeffand. M-me Dudeffand тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом она усвояла себе довольно верное понятие о чертах нового знакомца. К Джиббону она приложила тот же осязательный способ, и это было ужасно. Англичанин подошел к креслу и особенно добродушно подставил ей свое удивительное лицо. M-me Dudeffand приблизила к нему свои руки и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чем бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев и, наконец, она, быстро отдернув с гадливостью свои руки, вскричала: «Какая гадкая шутка!»
В согласии с философией композиции Эдгара По[11], предположим, что сочинение ДГЖ началось именно с этого вкусного места, и рассмотрим структуру рассказа как производную от него.
4
Пока не обнаружено никаких сведений о жизненных прототипах персонажей ДГЖ — княгини, ее детей, ее гостей (дипломата и двух сенаторов), — по всей видимости, вымышленных. Их реальность, как и подлинность событий, призвано удостоверить участие в сюжете самого Лескова и беглое упоминание о князе Гагарине[12], порекомендовавшем его княгине. За их вычетом, историческими оказываются исключительно персонажи цитируемого фрагмента Гиббон и дю Деффан и его рассказчица Жанлис[13].
Подлинной является как эта цитата из Жанлис (впрочем, приводимая неточно), так и контрастная к ней — о руководстве чтением молодежи. К мемуарам Жанлис восходит и еще одно важное место:
Я… привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «culotte», но зато, когда ей… пришлось выговорить это слово при королеве, она запнулась и тем заставила всех расхохотаться [culotte, «штаны», cul, «задница». — А. Ж.]. Но я никак не мог вспомнить: у кого из французских писателей мне пришлось читать об ужасном придворном скандале, которого совсем бы не произошло, если бы дама выговорила слово «culotte» так же просто, как выговаривала его своими августейшими губками сама королева.
Налицо детальное предвестие кульминационной сцены: в обоих случаях происходит скандал из-за чрезмерного целомудрия женщины (придворной дамы; княжны), которое мешает ей адекватно охватить (произнести; понять) текст, имеющий отношение к заднице (слово culotte[14]; ситуацию с ягодицеподобным лицом), что для искушенной женщины (королевы; Жанлис) не составляет проблемы. А взят этот пассаж из тех же записок Жанлис, что и эпизод с Гиббоном и дю Деффан и рассуждение про заботу о вкусах юношества[15].
Сокрытие Лесковым источника, цитируемого им в пику княгине, понятно. Лишняя ссылка на мемуары Жанлис выдавала бы бедность интертекстуальной базы рассказа[16], и без того строящегося на апроприации чужого текста. Тем вероятнее, что рассказ возникает из впечатлений от мемуаров Жанлис, и тем интереснее проследить, как Лесков отталкивается от первичного материала.
5
Прежде всего сам этот материал организуется с максимальной риторической эффективностью. Две цитаты подаются открыто, образуя основной поворот сюжета: от успешного (для княгини) гадания по книге Жанлис — к провальному (по модели «Пиковой дамы» и других договоров со сверхъестественными силами); а предвестие (с culottte) вводится анонимно, как бы со стороны. В развязке текст Жанлис действует подобно публично оглашаемому письму (или дневнику) главного обманщика (как в «Мизантропе», «Ревизоре», «Мудреце»).
Образ Жанлис, сочинительницы одновременно назидательных книг и скоромных мемуаров, следует в ДГЖ принятым представлениям[17]. Однако изначально противоречия тут нет: одно дело — отбор книг для юношества, другое — литература для взрослых. Конфликт создается введением в сюжет недалекой «последовательницы» Жанлис и ее инфантильной дочери. Различие между «последовательницей» и ее кумиром проявляется в полной неожиданности для княгини непристойного фрагмента из Жанлис и специально подчеркивается рассказчиком («…книги, о которых мы решаемся говорить, нужно прежде прочесть»).
Роковое проявление читательской несостоятельности княгини очень изящно — и тоже интертекстуально — подготовлено. Ее симпатия к автору основана на том, что «ей почему-то нравился мой рассказ “Запечатленный ангел”». Однако читала она его явно невнимательно — не заметив, что в нем фигурирует ее прообраз: светская дама, полагающаяся на фальшивые, но до поры до времени сбывающиеся пророчества, пока фортуна наконец не отворачивается от нее и ее высокопоставленного мужа, что и приводит к катастрофическому «запечатлению» старообрядческой иконы. Эта автоотсылка не прописана в тексте, но и не герметична, учитывая известность «Запечатленного ангела» и активный «авторский» слой повествования ДГЖ. Буквальным предвестием финального посрамления княгини являются также ее слова, что русских писателей «никак нельзя читать вслух без предварительного пересмотра». Чреват провалом и выбор ею в блюстители пристойности Лескова, отличавшегося вольностью эротической тематики.
6
Итак, освоение эпизода из мемуаров Жанлис — сильнейший творческий вызов автору ДГЖ. В pendant к теме рискованности чтения рискованной является и сама эта операция, требующая соревноваться с соблазнительным инородным текстом. Это подобно трансплантации органов: пересаживаемый орган жизненно нужен, но возникает смертельная опасность его отторжения.
Типовая задача вживления чужого текста в ткань собственного может решаться по-разному.
Пушкин в «Повестях Белкина» дважды выворачивает наизнанку «Бедную Лизу», и получаются «Метель» и «Станционный смотритель», Карамзин же в тексте не фигурирует. Напротив, герой «Бедных людей» Достоевского впрямую берется за сравнительный анализ «Станционного смотрителя» и «Шинели», а «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова заглавием кивает на Шекспира, коллизией — на «Грозу» Островского, а сюжетно уклоняется далеко в сторону (сексуальную).
Особый класс металитературных вариаций образуют пространно цитирующие чужой текст, а иногда и озаглавленные соответствующим образом.
Заглавие «Гюи де Мопассан» Бабеля настраивает на чтение скорее литературоведческой статьи, чем сюжетной новеллы (Nilsson 1982: 214), и тем парадоксальнее двойной поворот: сначала от сухого заголовка и профессиональных разговоров о Мопассане к адюльтерному эпизоду, проецирующему в жизнь героев переводимую ими новеллу, а затем обратно, к медитативному осмыслению биографии ее автора.
У Лескова таковы рассказы «По поводу “Крейцеровой сонаты”» и ДГЖ, относящийся к тому же квазинаучному типу, но уступающий бабелевскому в радикальности жизнетворческой апроприации.
Общее направление обработки жанлисовского фрагмента в ДГЖ очевидно: оно не столько полемическое, сколько восхищенно-отстраненно-соревновательное. Соревновательность присуща и сугубо литературоведческому разбору, призванному научными средствами воспроизвести эстетический эффект исследуемого текста. Но Лесков идет не таким путем (вообще-то для него — как автора исторических и критических эссе — не закрытым), а пристраивает к выдержкам из Жанлис собственный вымышленный сюжет. Это задано уже заглавием рассказа, которое позаимствовано из названия книги Жанлис (Жанлис 1808), но снабжено актуальным подзаголовком «Спиритический случай» и каламбурным обыгрыванием слова «дух».
7
В эпизоде из мемуаров Жанлис есть с чем посостязаться. Помимо культуртрегерской ауры погружения в далекую эпоху (в манере «Пиковой дамы») и карнавального уравнения «лицо = задница»[18], его отличает несомненное повествовательное мастерство. Проблематичное опознание путем ощупывания имеет почтенную архетипическую родословную: ощупывание Полифемом Одиссея и Исааком Иакова; целование, а затем прижигание задниц, выдаваемых за лицо, в рассказе чосеровского мельника; притчу о семерых слепых, ощупывающих слона; детскую игру в жмурки. Оно представляет идеальное орудие остранения: многоступенчатый переход от неузнавания к узнаванию, акцентирующий неконвенциональные, низкие свойства объекта. Восприятие лица как задницы, а его подсовывания слепой старухе — как гадкой шутки соответствует формуле эротических загадок-обманок, приводимых Шкловским[19]. Это ощупывание Жанлис разворачивает в целую мини-новеллу, сочетающую попытки опознания (ошибочного, но тем более гадкого) со все более откровенными комментариями всеведущей рассказчицы.
Лесков — «профессионал-артист, влюбленный в свое литературное дело… мозаист, стилизатор и антиквар» (Эйхенбаум 1969: 337—338) — дублирует и одновременно по-новому обрамляет эту выигрышную конструкцию[20]. Обрамление состоит в том, что вместо неприкрыто вуайеристского смакования скандальной сцены как таковой ей отводится роль решающего аргумента в дискуссии на спиритические и литературно-воспитательные темы между упертой княгиней и умеренным автором. Дублирование же осуществляется силами княжны, остраняющая наивность которой варьирует остраняющую слепоту дю Деффан. Основой остранения является распространенный прием отключения главного канала восприятия (зрительного), вынуждающий полагаться на менее информативный (осязательный)[21]. Процесс чтения и его осмысления в точности следует за процессом ощупывания, с той разницей, что дю Деффан пытается опознать часть тела Гиббона, а княжна — еще и понять ход мысли дю Деффан. Возрастной контраст между ними оттеняет сходство, в частности двойственность точки зрения: княжна дублирует маркизу, гости во главе с княгиней дублируют гостей дю Деффан, а на каком-то уровне слепую дю Деффан дублирует упрямая княгиня.
У этого обрамления-удвоения есть еще один важный аспект.
Когда молодая княжна, закрыв книгу, спросила: «Что такое показалось m-me Dudeffand?», то лицо княгини было столь страшно, что девушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась в другую комнату, откуда сейчас же послышался ее плач, похожий на истерику. Брат побежал к сестре, и в ту же минуту широким шагом поспешила туда княгиня.
Этот фрагмент построен по известному принципу «выхода действия за рамки артефакта (портрета, статуи, рассказа)», когда артефакт обнаруживает неожиданную витальность и вторгается в «жизнь»[22]. Здесь переброс за рамку реализован недоуменным переводом взгляда княжны с читаемой книги на мать, выражением ужаса от услышанного на лице матери и побегом всего семейства из гостиной. В результате материализация «духа» осуществляется почти буквально — сначала путем его сгущения в образ материально-телесного низа, а затем путем драматического воздействия на собравшихся.
8
Вплетение мемуарного эпизода в ткань ДГЖ достигается множеством композиционных рифм. Так, мотив задницы и связанной с ним скатологической образности подспудно включен в портрет невинной княжны, для чего привлечен еще один интертекст — стихотворение Гейне «Диспут» (1851)[23]. Там религиозный спор капуцина и раввина, всячески поливающих друг друга словесным дерьмом, разрешает невинная королева Бланш, объявляющая, что они оба «портят воздух». Попытки оппонентов обратить друг друга в свою веру — еще одна параллель к воспитательной тематике ДГЖ, а обрисовка княжны через литературную ссылку — лишний аргумент в пользу ее вымышленности.
Эпатирующее явление в ДГЖ ощупываемой рукой задницы хорошо подготовлено. Уже в начале рассказа появляется терракотовая ручка Жанлис, которая сразу же ставится в связь с ядовитостью писательницы[24], предвещая финальную шалость духа Жанлис:
Над перламутровой инкрустацией… свешиваясь с темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная из terracotta миниатюрная ручка, которую целовал в своем Фернее Вольтер, не ожидавший, что она уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики.
Далее руки неоднократно фигурируют в лейтмотивном жесте княгини, снимающей «волюмчики» Жанлис с полки, начиная с каламбурного столкновения в одной фразе скульптурной ручки Жанлис и реальных рук ее поклонницы и кончая каламбурным шишом:
«Как часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней под рукою»; «При последнем слове княгиня подняла над головою руку и указала изящным пальцем на этажерку, где стояли голубые волюмы»; «Княгиня… выслушала меня… и, не покидая своего места, подняла над головою свою руку и взяла один из голубых волюмов»; «Она опять, как в первый раз, закинула руку к помещавшейся… над ее этаблисманом этажерке, взяла без выбора волюм»; «Она… сожгла все свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, от которой… уцелел на память один пальчик, или, лучше сказать, шиш».
Промежуточное место между руками княгини (и ее терракотовым талисманом), с одной стороны, и злополучной рукой маркизы дю Деффан и лицом Гиббона, с другой, занимают «локти» домохозяйки Обломова, символизирующие в глазах княгини возмутительную вольность русских авторов.
Я… прямо спросил, какие у Гончарова есть разжигающие предметы?
На этот откровенный вопрос я получил откровенный же, острым шепотом произнесенный, односложный ответ: «локти».
— Локти, локти… Неужто вы не помните… как его этот… герой где-то… там засматривается на голые локти своей… очень простой какой-то дамы?..
Я… вспомнил известный эпизод из «Обломова» и не нашел ответить ни слова.
Хотя локти вдовы Пшеницыной, хозяйничающей на кухне, далеки от порнографии, упоминаются они Гончаровым не однажды, а на протяжении многих страниц и становятся предметом любовной фиксации Обломова, приводящей к его браку с этой представительницей низшего сословия. Созерцает он ее обнаженные локти, разумеется, сзади, чем, в рамках лесковской конструкции, от них перебрасывается мостик к руке дю Деффан и мотиву материально-телесного зада[25].
Естественную (и, надо полагать, сознательно учтенную Лесковым) опору мотив руки черпает в соответствующей спиритической топике, где руки участников сеанса и вызываемых ими духов играют активнейшую роль (см.: Виницкий 2006). Налицо и перекличка с устойчивым мотивом святочного топоса — «гаданьем у овина», ключевым моментом которого является выставление девушками, гадающими о суженом, голого зада и его похлопывание рукой из овина.
В 12 часов ночи идут к овину. Здесь, закинув на голову платье и обнажив заднюю часть тела, наклонясь, пятятся задом… Далее, установив голый зад в окно, говорят: «Шани меня, мани меня по голой попище мягкой ручищей», или: «Мужик богатый, ударь по жопе рукой мохнатой». В зависимости от того, какой рукой проведет в это время по гузищу, такой будет и суженый (Чудо 1993: 11).
Приходят раз дочери духовного звания… к овину слушать и завораживаются, если же из овина хлопнет по жопе рукавицей, то выйду за попа, а ежели голой рукой, то выйду замуж за крестьянина (Чудо 1993: 52).
Сходство эпизода из Жанлис со святочными текстами, возможно, и подсказало введение в сюжет молодой княжны, инициацией которой становится роковое гадание по книге Жанлис:
Самым уязвимым моментом святочного поведения считалось гаданье, или… завораживание… Повышенная активность нечистой силы в этот промежуток времени делала более доступным общение с ней человека. А ведь именно от нечистой силы, вступив с ней в контакт, гадальщик получает ответ на свой запрос… Гаданья, совершаемые в одиночку, в местах, которые считались наиболее опасными (в бане… в овине…), превращались… в тяжелое и вместе с тем притягательное своей таинственностью испытание. Такие — «опасные» — гаданья нередко кончались психическими травмами, а иногда и смертью (Душечкина, Баран: 9—10).
В зону «нечистой силы» — непристойных мемуаров о событиях столетней давности — вступает, причем в одиночестве, и молодая княжна, что оборачивается для нее психической травмой. Рискованность этого шага, организованного княгиней, как бы на пари бросающей вызов миру духов, сродни опасным играм с нечистой силой[26].
Княгиня занимает законное место в ряду многочисленных лесковских самодуров, в частности — женского пола, в особенности — крутого материнского склада[27]. Примеров множество, назову два: самодуршу Марью Моревну, идущую на всевозможные хитрости, чтобы не дать сыну жениться на любимой крепостной женщине («О Петухе и его детях. Геральдический казус»; 1884, опубл. 1917); и вдову-асесcоршу, настрадавшуюся от гульливого мужа и воспитавшую сына невинным до почти полной бесполости, что приводит к его дурацкой травматической реакции на готовность отдаться ему молодой женщины («Излишняя материнская нежность»; 1884)[28].
Образ княгини до карикатурности несложен. Она упряма, что многократно акцентируется:
«[О]на… прибавила, что все, ею… сказанное, есть не только вера, но настоящее и полное убеждение, которое имеет такое твердое основание, что его не могут поколебать никакие силы»; «Это, по словам княгини, вошло в ее “абитюды”, которым она никогда не изменяла»; «Я видел, что имею дело с очень убежденной последовательницей спиритизма»; «Разуверять в этом княгиню было бесполезно, так как она была в том возрасте, когда мнения уже сложились прочно и очень редко кто способен подвергать их новому пересмотру и поверке»; «Переуверить в том, во что она уверовала, недостаточно было слова обыкновенного человека, а это могло быть по силам разве духу, который счел бы нужным прийти с этою целью из ада или из рая»; «Княгиня имела на все строго сформированные взгляды»; «Я не имел ни нужды, ни охоты спорить с недоступною для переубеждений княгинею».
Близко к началу рассказа, за первым же описанием культовой этажерки следует сообщение княгини, что она завещала похоронить вместе с ней все «волюмы» Жанлис, чтобы и после смерти к ней поступал «флюид» от ее кумира. Загробный мотив совмещает в едином образе книжную и спиритическую топику и задает экстремальность притязаний княгини. Подобно тому, как Германн готов бросить вызов судьбе, Дон Гуан — статуе Командора, а девушки — отправиться на святках к овину, княгиня ставит на карту собственную дочь:
— Я отвечаю, — сказала она, — что самый придирчивый человек не найдет у Жанлис ничего такого, чего бы не могла прочесть вслух самая невинная девушка, и мы это сейчас попробуем.
Она… взяла без выбора волюм — и обратилась к дочери: — Мое дитя! раскрой и прочти нам страницу.
Княжна повиновалась.
Лесковских упрямцев-самодуров отличает закрытость, отгораживание от жизни, тогда как его «праведники» (непохожие в этом на толстовских) не замыкаются в себе или монастырских стенах, а вершат праведные дела среди людей; важной ценностью в мире Лескова является «любопытство» (Sperrle 2002: 19, 36—40, 58—61, 100 et passim). В согласии с этим, вся воспитательная энергия княгини направлена на отгораживание ее дочери от жизни, а драматический поворот наступает, когда та попадает под неконтролируемое воздействие внешних сил[29].
«Любопытство» богато представлено в рассказе — в основном применительно к автору:
«[C]пиритически[е] явления… тогда возбуждали любопытство, и я не видал причины не интересоваться тем, во что начинают верить люди»; «Я видел, что имею дело с очень убежденной последовательницей спиритизма… и потому чрезвычайно всем этим заинтересовался»; «Я уже знал теорию Кардека о “шаловливых духах” и теперь крайне интересовался: как удостоит себя показать при мне дух остроумной маркизы Сюльери, графини Брюсляр?»; «Это было до такой степени любопытно, что я… прямо спросил, какие у Гончарова есть разжигающие предметы?»; «[К]нягин[ю]… я, по правде сказать, давно гораздо усерднее наблюдал, чем старался служить ей моими… советами»; «— У вас, — сказала она, — есть доводы, а у меня есть оракул. — Я, — говорю, — интересуюсь его слышать»; «И княжна… прочитала интересные воспоминания Genlis о старости madame Dudeffand»; «Дипломат… интересовался узнать мое… мнение о том, что могло представиться мысленным очам молодой княжны».
Вариацией на тему любопытства к миру является и ощупывание Гиббона маркизой дю Деффан, в свою очередь заражающее молодую княжну. Княгиня отвечает на это полным обрывом всех связей — с российскими знакомыми и с госпожой Жанлис.
На специфически женский тонус самодурства и вызываемый им ответный «мизогинизм» повествования работает гендерный расклад в системе персонажей. Княгиня, княжна, госпожа Жанлис и плеяда любимых писательниц княгини, наконец, маркиза дю Деффан — женщины. Им противостоят и так или иначе от них страдают мужчины: автор, Вольтер, русские классики и, конечно, Гиббон. Еще двое писателей-мужчин, А.Б. Калмет и Аллан Кардек, — это авторы, писавшие о спиритизме, а именно о непредсказуемости и «шаловливости духов», чем предвещается развязка сюжета.
10
Для одного русского писателя Лесков (не менее ядовитый, чем Жанлис) позволяет княгине сделать исключение: «Из новейших одобрялся несомненно один Тургенев». Напрашивается предположение, что это не случайно. У Тургенева есть рассказ, с сюжетом которого ДГЖ перекликается очень основательно: «Фауст. Рассказ в девяти письмах» (1856; Тургенев 1962: 118—149).
Властная вдова, суеверно боящаяся жизни, в которой много перенесла, старается оберечь от житейских бурь свою шестнадцатилетнюю дочь Веру и строго руководит ее чтением. Рассказчик влюбляется в Веру, хочет жениться, но получает от матери отказ. Много лет спустя он встречает Веру уже замужней, родившей троих детей, из которых выжила только одна дочка. В свои двадцать восемь лет Вера сохранила девический облик и так и не прочла «ни одного романа, ни одного стихотворения — словом, ни одного… выдуманного сочинения!» В ее «гостиной, над диваном, висит портрет ее покойной матери…. [Дочь] сидела прямо под ним: это ее любимое место».
Рассказчик читает ей и нескольким гостям «Фауста» Гёте (по-немецки), она открывает для себя литературу, и в результате между ней и рассказчиком возникает любовь, но после объяснения и страстного первого поцелуя и перед решительным следующим свиданием Вере «будто бы… в саду ее мать-покойница привиделась». Она заболевает и умирает. Рассказчик формулирует смысл происшедшего:
[К]огда я был еще ребенок, у нас… была красивая ваза из… алебастра… девственной белизны. Однажды… я начал качать цоколь… ваза разбилась вдребезги… Мне следовало бежать, как только я почувствовал, что люблю… замужнюю женщину; но я остался, — и вдребезги разбилось прекрасное создание… Да, [мать] ревниво сторожила свою дочь. Она сберегла ее до конца и, при первом неосторожном шаге, унесла ее с собой в могилу… [Ж]изнь… не забава… не наслаждение… Отречение… — вот ее тайный смысл… [В] молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше; тем дальше уйдешь. Молодости позволительно так думать; но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза.
Многочисленные сходства тургеневского «Фауста» с ДГЖ видны уже из этого резюме. К ним можно добавить:
упоминания о читаемых авторах, привидениях, «Неведомом», «сношениях с духами», духе-Мефистофеле; магию портрета матери, «непонятное вмешательство мертвого в дела живых»; «слепое» доверие Веры к матери; уход Веры в спальню после чтения «Фауста»; временную победу рассказчика над покойницей («[Я] остановился перед портретом… “Что, взяла, — подумал я с тайным чувством насмешливого торжества, — ведь вот же прочел твоей дочери запрещенную книгу!” Вдруг мне почудилось… что старуха с укоризной обратила [глаза] на меня»); заключающую повествование мораль и многое другое[30].
Очевидна полемическая противоположность разработки Лесковым общего кластера мотивов. А опора образа княгини на фигуру тургеневской вдовы — дополнительное свидетельство ее вымышленности[31].
Еще одним прототипом княгини является мать байроновского Дон Жуана — вдова, придирчиво следившая за воспитанием сына и пристойностью его чтения. Байрон посвящает десяток строф («Дон Жуан», I, 38—48) игривому обзору античной и церковной литературы, по канве которого мог быть написан аналогичный обзор русской классики в ДГЖ[32]. Отмечу, что во всех трех текстах рассказ ведется от имени автора, лично знакомого и конфликтующего с властной материнской фигурой[33].
11
Общий тематический инвариант лесковского письма иногда усматривают в оппозиции «правило/исключение» (Sperrle 2002: 42—45, 199—200 et passim), производной от которой можно считать частую у него игру с «прямотой/ кривизной» как изображаемых событий и характеров, так и нарративных поз и стилей[34]. Согласно Лескову, сама жизнь принципиально крива, и эту кривду жизни может адекватно отобразить лишь соответственная кривизна искусства. Опровержение упрощенных схем (а в случае героя-праведника — их чудесное утверждение)[35] по принципу «минус на минус дает плюс» — излюбленный прием Лескова, а его излюбленный персонаж — «трикстер», персонаж-артист, берущий на себя авторскую роль организатора действия. Мотивы его поведения могут быть разными, но общим остается рисунок «исправления по кривой». Вспомним:
циничное решение обер-полицеймейстера (так у Лескова! — А.Ж.) Кокошкина наградить самозванца, непричастного к спасению утопающего, а настоящего спасителя, нарушителя дисциплины, Постникова, в рапорте императору не называть; наказание Постникова подполковником Свиньиным; и гротескное оправдание этого наказания путем душеспасительной схоластики безымянным «владыкой» («Человек на часах»);
благодетельный трюк, состоящий в том, чтобы подчистить, а затем восстановить в качестве поддельной подлинную, но изначально жульническую церковную запись несуществующего брака, что позволяет оспорить ее действительность и узаконить реальный союз любящих супругов («Простое средство», продолжение заметки «О Петухе и его детях. Геральдический казус»);
аналогичную серию хитростей, применяемых жизнелюбивым, но вовсе не святым художником в «Маленькой ошибке», и целительный «повертон» в «Печерских антиках» (см. примеч. 10);
наконец, вполне праведническое поведение заглавного героя «Павлина», не останавливающегося перед подменой документов и другими обходными маневрами ради счастья и спасения души любимой женщины; причем артистизмом отличается его образ действий уже в начале повести, где он непреклонно исполняет волю своей жестокой хозяйки.
Роль трикстера, помогающего писателю строить интригу, то есть «вставного автора», может возлагаться на писателя в буквальном смысле, например на автора цитируемого текста. Именно такова функция Жанлис в ДГЖ, опирающаяся на двусмысленность ее литературной репутации: контраст ее мемуарных вольностей с приписанным ей княгиней ореолом непогрешимости довершает трактовку ее поведения как «шаловливого», то есть типично трикстерского (и по-святочному чудесно приводящего к нравоучительной развязке)[36]. При этом ее трикстерство, с одной стороны, маскируется — подчеркнуто «духовным» мотивом обращения к тексту давно покойной писательницы, а с другой, обнажается — благодаря ее издевательской причастности к эпизоду с Гиббоном и вере княгини в реальность ее спиритического присутствия. Иными словами, (дух) Жанлис — идеальный готовый предмет для воплощения лесковской «кривизны». На нее как на свое трикстерское alter ego Лесков сваливает всю моральную ответственность за смакование «разжигающего» сюжета и показываемый литературному истеблишменту шиш, притворно отстраняясь таким образом от, по сути, родственного автора[37]. Жанлис близка Лескову, как Мопассан — Бабелю, взявшемуся оплодотворить унылую русскую словесность французскими жизненными соками (см.: Жолковский 2006: 16—17, 29 сл.).
12
Введение в ДГЖ вставного автора в лице Жанлис производится не за счет обезличивания настоящего автора, а в связке с ним, выступающим под собственным именем со своей литературной продукцией и биографией (включая гонения на него критики). Взаимоотношения между двумя авторскими персонажами основаны как на различиях (эпох, пола, моральных установок), так и на сходствах: оба — любители озорных сюжетов, рассказывающие о случившемся при них в неком литературном салоне[38]. А нарративная солидарность с Жанлис выражается в поддержке, которую Лесков-персонаж-рассказчик оказывает ее духу, полувсерьез допуская его в свой рассказ.
Это двусмысленное поведение автора обнаруживает характерные трикстерские черты. Сначала он объявляет о добросовестном интересе к спиритическим верованиям княгини и готовности служить ее литературным советчиком; потом отчаивается с ней договориться и принимает позу стороннего наблюдателя; затем, уже с очевидной иронией, рассуждает об оракульских способностях духов, их шаловливости и шансах на их помощь в отстаивании литературных вольностей и, наконец, лукаво, а там и совершенно открыто торжествует, когда оракул берет сторону литературы.
Если бы не ирония, такой союз автора с оракулом напоминал бы непробиваемую веру господина Журдена в реальность турецкого посольства, пожаловавшего ему сан мамамуши. Но под пером Лескова подобная подача автора является очередным проявлением техники сказа. «Я» — еще одно вымышленное действующее лицо рассказа[39], подобно княгине, с которой оно соавторствует в повествовательной материализации «духа Жанлис», и госпоже Жанлис, с которой его сближает спасительная непрямота[40].
Среди других проявлений отстраненно-сказового поведения автора — разнообразные словесные игры, имитация речи офранцузившейся княгини (волюмчики, абитюды, кондолеансы)[41], сообщение, что княжна читала текст Жанлис в оригинале, но передача его в рассказе по известному русскому переводу, обилие литературных цитат и имен, написание иностранных имен латиницей и т.п. Такой филологизм в каком-то смысле возвращает рассказ к его истокам — реакции на прочитанные мемуары Жанлис, но по отношению к вымышленной фабуле служит именно задаче дистанцирования: автор, поглощенный металитературной проблематикой, не может быть заподозрен в любовании неприличным анекдотом.
Оригинальная особенность этого не вполне надежного автора-рассказчика — то, что перед нами гибрид вымышленного персонажа с реальным автором[42]. «Комплекс ненадежности» не столько отличает его от реального Лескова, сколько роднит с ним. Лесков и как личность был непредсказуем, менял точки зрения, любил фантазировать, привирать, видя в этом свободу от жесткого закрепления истины. В быту и застолье он никогда не повторял однажды рассказанную историю одинаково, смущая этим своих близких (Sperrle 2002: 64; А. Лесков 1984, 1: 363—364). В каком-то смысле гибрид вымысла и правды существовал уже в действительности, и образ автора-трикстера автопортретен в большей степени, чем можно было ожидать.
13
В заключение выскажу гипотезу об автобиографическом подтексте одной детали, довольно заметной, но замотивированной столь искусно, что к подобным догадкам она вроде бы не располагает.
Во время работы над ДГЖ Лесков уже расстался со второй женой и жил со своей домоправительницей Прасковьей Андреевной Игнатьевой — Пашей. Он очень ценил ее. Не ограничиваясь этим, он любил мифологизировать ее образ. По воспоминаниям сына писателя,
Лесков, радовавшийся воцарившемуся в доме… порядку, стал… слишком горячо «подавать» виновницу создавшегося благополучия. Беллетристическая потребность… предательски подсказала ему более чем смело найти внешнее сходство ее с Дездемоной — по изображению последней в… кипсеке шекспировских женщин, изданном Брокгаузом в 1857 году… В подтверждение… разворачивался… злополучный альбом. Иногда это совпадало с моментом, когда живая Дездемона подавала в кабинете гостям чай. Некоторые проявляли льстивый интерес, с напускным вниманием всматриваясь в гравюру, как и в живую натуру, некоторые являли холодноватую рассеянность, не остававшуюся без возмездия…
Шекспировская Дездемона, видимо, нарушила личное равновесие Прасковьи (А. Лесков 1984, 2: 171).
Соблазнительно предположить, что за упоминанием о домохозяйке (а затем и жене) Обломова, с ее вызывающими негодование княгини локтями, скрывается ее аналог в реальной жизни Лескова[44]. Собственно, можно бы пойти дальше и в «холодноватой» реакции некоторых гостей прозреть прообраз самоуверенной княгини, а в альбомной Дездемоне — черты загробного духа. Но лучше остановиться вовремя.