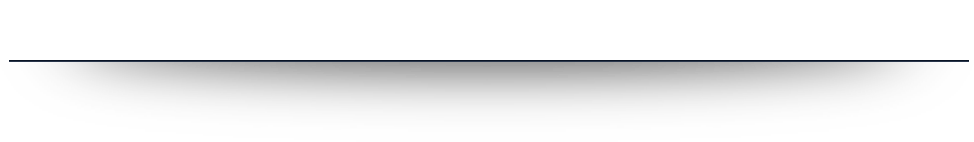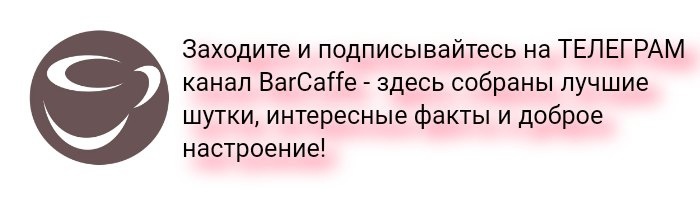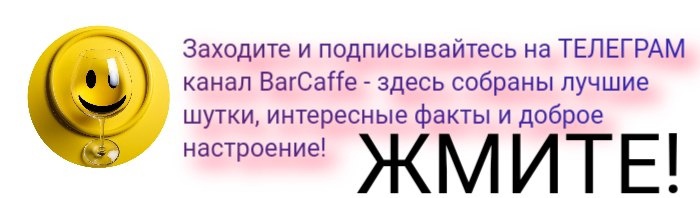![]()
После полудня стало так жарко, что пассажиры I-го и II-го классов один за другим перебрались на верхнюю палубу. Несмотря на безветрие, вся поверхность реки кипела мелкой дрожащей зыбью, в которой нестерпимо ярко дробились солнечные лучи, производя впечатление бесчисленного множества серебряных шариков, невысоко подпрыгивающих на воде. Только на отмелях, там, где берег длинным мысом врезался в реку, вода огибала его неподвижной лентой, спокойно синевшей среди этой блестящей ряби. На небе, побледневшем от солнечного жара и света, не было ни одной тучки, но на пыльном горизонте, как раз над сизой и зубчатой полосой дальнего леса, кое-где протянулись тонкие белые облачка, отливавшие по краям, как мазки расплавленного металла. Черный дым, не подымаясь над низкой закоптелой трубой, стлался за пароходом длинным грязным хвостом.
Покромцевы, муж и жена, тоже вышли на палубу. Их вовсе не стесняло окружавшее многолюдное и совершенно незнакомое общество; наоборот, они в нем чувствовали себя еще ближе, еще теснее друг к другу. Они были женаты уже три месяца – именно такой срок, после которого молодые супруги особенно охотно посещают театры, гулянья и балы, где, затерявшись в толпе чужих людей, они глубже и острее чувствуют взаимную близость, обратившуюся в привычку за время медового месяца. Лишь изредка они обменивались незначительным односложным замечанием, улыбкой или долгим взглядом. И он и она испытывали то полное, ленивое и сладкое счастье, которое дает только путешествие, сопровождаемое молодостью и беззаботной удовлетворенной любовью.
Снизу, из машинного отделения, вместе с теплым запахом нефти доносилось непрерывное шипение, мягкие удары работающих поршней и какие-то глубокие, правильные вздохи, в такт которым так же размеренно вздрагивала деревянная палуба “Ястреба”. Под колесами парохода клокотала вода, выбрасывая сердитые бугры белой пены. За кормой, торопливо догоняя ее, бежали ряды длинных, широких волн; белые курчавые греб ни неожиданно вскипали на их мутно-зеленой вершине и, плавно опустившись вниз, вдруг таяли, точно прятались под воду. Расходясь по реке все шире, все дальше, волны набегали на берег, колебали и пригибали к земле жидкие кусты ивняка и, разбившись с шумным плеском и пеною об откос, бежали назад, обнажая мокрую песчаную отмель, всю изъеденную прибоем.
Кое-где на кустах висели длинные рыбачьи сети. Чайки с пронзительным криком летели навстречу пароходу, сверкая на солнце при каждом взмахе своих широких, изогнутых крыльев. Изредка на болотистом берегу виднелась серая цапля, стоявшая в важной и задумчивой позе на своих длинных красноватых ногах.
Но это однообразие не прискучивало Вере Львовне и не утомляло ее, потому что на весь божий мир она глядела сквозь радужную пелену тихого очарованья, переполнявшего ее душу. Ей все казалось милым и дорогим: и “наш” пароход – необыкновенно чистенький и быстрый пароход! – и “наш” капитан – здоровенный толстяк в парусиновой паре и клеенчатом картузе, с багровым лицом, сизым носом и звериным голосом, давно охрипшим от непогод, оранья и пьянства, – “наш” лоцман – красивый, чернобородый мужик в красной рубахе, который вертел в своей стеклянной будочке колесо штурвала, в то время как его острые, прищуренные глаза твердо и неподвижно смотрели вдаль. Слегка облокотившись на проволочную сетку. Вера Львовна с наслаждением глядела, как играли в волнах белые барашки, а в голове ее под размеренные вздохи машины звучал мотив какой-то самодельной польки, и с этим мотивом в странную гармонию сливались и шум воды под колесами и дребезжание чашек в буфете…
Иногда навстречу “Ястребу” попадался буксирный пароход, тащивший за собою на толстом канате длинную вереницу низких, неуклюжих барок. Тогда оба парохода начинали угрожающе реветь, что заставляло Веру Львовну с испуганным видом зажмуривать глаза и затыкать уши…
Вдали показывалась пристань – маленький красный домик, выстроенный на барке. Капитан, приложивши рот к медному рупору, проведенному в машинное отделение, кричал командные слова, и его голос казался выходящим из глубокой бочки. “Самый малый! Ступ! Задний ход! Сту-уп!..” С нижней палубы выбрасывали канат, и он, развиваясь в воздухе, с грохотом падал на крышу пристани. Матросы по дрожащим сходням выносили на берег громадные кули и мешки, сгибаясь под их тяжестью и придерживая их железными крюками. Около станции толпились бабы и девчонки в красных сарафанах; они навязчиво предлагали пассажирам вялую малину, бутылки с кипяченым молоком, соленую рыбу и баранину. Ямские лошади, над которыми вились тучи слепней, нетерпеливо позвякивали бубенчиками и колокольцами.
Жара понемногу спадала. От воды поднялся легкий ветерок. Солнце садилось в пожаре пурпурного пламени и растопленного золота; когда же яркие краски зари потухли, то весь горизонт осветился ровным пыльно-розовым сиянием. Наконец и это сияние померкло, и только невысоко над землей, в том месте, где закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубоватый оттенок вечернего неба, а внизу в тяжелую сизоватую мглу, подымавшуюся от земли. Воздух сгустился, похолодел. Откуда-то донесся и скользнул по палубе слабый запах меда и сырой травы. На востоке, за волнистой линией холмов, разрастался темно-золотой свет луны, готовой взойти. Она показалась сначала только одним краешком и потом выплыла большая, огненно-красная и как будто бы приплюснутая сверху.
На пароходе зажгли электричество и засветили на бортах сигнальные фонари. Из трубы валили длинным снопом и стлались за пароходом, тая в воздухе, красные искры. Вода казалась светлее неба и уже не кипела больше. Она успокоилась, затихла, и волны от парохода расходились по ней такие чистые и гладкие, как будто бы они рождались и застывали в жидком стекле. Луна поднялась еще выше и побледнела; диск ее сделался правильным и блестящим, как отполированный серебряный щит. По воде протянулся от берега к пароходу и заиграл золотыми блестками и струйками длинный дрожащий столб.
Становилось свежо. Покромцев заметил, что жена его два раза содрогнулась плечами и спиной под своим шерстяным платком, и, нагнувшись к ней, спросил:
– Птичка моя, тебе не холодно? Может быть, пойдем в каюту?
Вера Львовна подняла голову и посмотрела на мужа. Его лицо при лунном свете стало бледнее обыкновенного, пушистые усы и остроконечная бородка вырисовывались резче, а глаза удлинились и приняли странное, нежное выражение.
– Нет, нет… не беспокойся, милый… Мне очень хорошо, – ответила она.
Она не чувствовала холода, но ее охватила та щемящая, томная жуть, которая овладевает нервными людьми в яркие лунные ночи, когда небо кажется холодной и огромной пустыней. Низкие берега, бежавшие мимо парохода, были молчаливы и печальны, прибрежные леса, окутанные влажным мраком, казались страшными.
У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой…
Он, точно угадывая ее мимолетное желание, тихо обвил ее половиной своего широкого пальто, и они оба затихли, прижавшись друг к другу, и, касаясь друг друга головами, слились в один грациозный темный силуэт, между тем как луна бросала яркие серебряные пятна на их плечи и на очертание их фигур.
Пароход стал двигаться осторожнее, из боязни наткнуться на мель… Матросы на носу измеряли глубину реки, и в ночном воздухе отчетливо звучали их протяжные восклицания: “Ше-есть!.. Шесть с полови-иной! Во-осемь!.. По-од таба-ак!.. Се-мь!” В этих высоких стонущих звуках слышалось то же уныние, каким были полны темные, печальные берега и холодное небо. Но под Плащом было очень тепло, и, крепко прижимаясь к любимому человеку, Вера Львовна еще глубже ощущала свое счастье.
На правом берегу показались смутные очертания высокой горы с легкой, резной, деревянной беседкой на самой вершине. Беседка была ярко освещена, и внутри ее двигались люди. Видно было, как, услышав шум приближающегося парохода, они подходили к перилам и, облокотившись на них, глядели вниз.
– Ах, Володя, посмотри, какая Прелесть! – воскликнула Вера Львовна. – Совсем кружевная беседка… Вот бы нам с тобой здесь пожить…
– Я здесь провел целое лето, – сказал Покромцев.
– Да? Неужели? Это, наверно, чье-нибудь имение?
– Князей Ширковых. Очень богатые люди…
Она не видела его лица, но чувствовала, что, произнося эти слова, он слегка разглаживает концами пальцев свои усы и что в его голосе звучит улыбка воспоминания.
– Когда же ты был там? Ты мне ничего о них не рассказывал… Что они за люди?
– Люди?.. Как тебе сказать?.. Ни дурные, ни хорошие… Веселые люди…
Он замолчал, продолжая улыбаться своим воспоминаниям. Тогда Вера Львовна сказала:
– Ты смеешься… Ты, верно, вспомнил что-нибудь интересное?
– О нет… Ничего… Ровно ничего интересного, – возрази Покромцев и крепче обнял талию жены. – Так… маленькие глупости… не стоит и вспоминать.
Вера Львовна не хотела больше расспрашивать, но Покромцев начал говорить сам. Ему приятно было, что его жена узнает, в какой широкой барской обстановке ему приходилось жить. Это щекотало мелочным, но приятным образом его самолюбие. Ширковы жили летом в своем имении, точь-в-точь как английские лорды. Правда, сам Покромцев был там только репетитором, но он сумел себя поставить так, что с ним обращались как со своим, даже больше того, – как с близким человеком. Ведь настоящих светских людей всего скорее и узнаешь именно по их очаровательной простоте. Лето промелькнуло удивительно быстро и весело: лаун-теннис, пикники, шарады, спектакли, прогулки верхом… К обеду все собирались по звуку гонга, непременно во фраках и белых галстуках, – одним словом, самое утонченное соединение строгого этикета с простотой и прекрасных манер с непринужденном весельем. Конечно, в такой жизни есть и свои недостатки, но пожить ею хоть одно лето – и то чрезвычайно приятно.
Вера Львовна слушала его, не прерывая ни одним словом и в то же время испытывая нехорошее, похожее на ревность чувство. Ей было больно думать, что у него в памяти остался хоть один счастливый момент из его прежней жизни, не уничтоженный, не сглаженный их теперешним общим счастьем.
Беседка вдруг точно спряталась за поворотом. Вера Львовна молчала, а Покромцев, увлеченный своими воспоминаниями, продолжал:
– Ну, конечно, играли в любовь, без этого на даче нельзя Все играли, начиная со старого князя и кончая безусыми лицеистами, моими учениками. И все друг другу покровительствовали, смотрели сквозь пальцы.
– А ты? Ты тоже… ухаживал за кем-нибудь? – спросила Вера Львовна неестественно спокойным тоном.
Он провел рукой по усам. Этот самодовольный, так хорошо знакомый Вере Львовне жест вдруг показался ей пошлым.
– Н-да… и я тоже. У меня вышел маленький роман с княжной Кэт. Очень смешной роман и, пожалуй, если хочешь, даже немного безнравственный. Понимаешь: девице еще и шестнадцати лет не исполнилось, но развязность, самоуверенность и прочее – просто удивительные. Она мне прямо изложила свой взгляд. “Мне, говорит, здесь скучно, потому что я ни одного дня не могу прожить без сознания, что в меня все кругом влюблены. Вы один здесь только мне и нравитесь. Вы недурны собой, с вами можно разговаривать, ну и так далее. Вы, конечно, понимаете, что женой вашей я быть не могу, но почему же нам не провести это лето весело и приятно?”
– Ну и что же? Было весело? – спросила Вера Львовна, стараясь говорить небрежно, и сама испугалась своего внезапно охрипшего голоса.
Этот голос заставил Покромцева насторожиться. Как бы извиняясь за то, что причинил ей боль, он притянул к себе голову жены и прикоснулся губами к ее виску. Но какое-то подлое, неудержимое влечение, копошившееся в его душе, какое-то смутное и гадкое чувство, похожее на хвастливое молодечество, тянуло его рассказывать дальше.
– Вот мы и играли в любовь с этим подлетком и в конце лета расстались. Она совсем равнодушно благодарила меня за то, что я помог ей не скучать, и жалела, что не встретилась со мною, уже выйдя замуж. Впрочем, она, по ее словам, не теряла надежды встретиться со мною впоследствии.
И он прибавил с деланным смехом:
– Вообще эта история составляет для меня одно из самых неприятных воспоминаний. Ведь правда, Верочка, гадко все это?
Вера Львовна не ответила ему. Покромцев почувствовал к ней жалость и стал раскаиваться в своей откровенности. Желая загладить неприятное впечатление, он еще раз поцеловал жену в щеку…
Вера Львовна не сопротивлялась, но и не ответила на поцелуй… Странное, мучительное и самой ей неясное чувство овладело ее душой. Тут была отчасти и ревность к прошедшему – самый ужасный вид ревности, – но была только отчасти. Вера Львовна давно слышала и знала, что у каждого мужчины бывают до женитьбы интрижки и связи, что то, что для женщины составляет огромное событие, для мужчины, является простым случаем, и что с этим ужасным порядком вещей надо поневоле мириться. Было тут и негодование на ту унизительную и развратную роль, которая выпала в этом романе на долю ее мужа, но Вера Львовна вспомнила, что и ее поцелуи с ним, когда они еще были женихом и невестой, не всегда носили невинный и чистый характер. Страшнее всего в этом новом чувстве было сознание того, что Владимир Иванович вдруг сделался для своей жены чужим, далеким человеком и что их прежняя близость никогда уже не может возвратиться.
“Зачем он мне рассказывал всю эту гадость? – мучительно думала она, стискивая и терзая свои похолодевшие руки. – Он перевернул всю мою душу и наполнил ее грязью, но что же я могу ему сказать на это? Как я узнаю, что он испытывал во время своего рассказа? Сожаление о прошлом? Нехорошее волнение? Гадливость (Нет, уж, во всяком случае, не гадливость: тон у него был самодовольный, хотя он и старался это скрыть)… Надежду опять встретиться когда-нибудь с этой Кэт? А почему же и не так? Если я спрошу его об этом, он, конечно, поспешит меня успокоить, но как проникнуть в самую глубь его души, в самые отдаленные изгибы его сознания? Почему я могу узнать, что, говоря со мной искренно и правдиво, он в то же время не обманывает – и, может быть, совершенно невольно – своей совести? О! Чего бы я ни дала за возможность хоть один только миг пожить его внутренней, чужой для меня жизнью, подслушать все оттенки его мысли, подсмотреть, что делается в этом сердце…”.
И это страстное влечение слиться мыслью, отожествиться с другим человеком, приняло такие огромные размеры, что Вера Львовна, нечаянно для самой себя, крепко прижалась головой к голове мужа, точно желая проникнуть, войти в его существо. Но он не понял этого невольного движения и подумал, что жена просто хочет к нему приласкаться, как озябшая кошечка. Он пощекотал ее усами по щеке и сказал тоном, каким говорят с балованными детьми:
– Веруся бай-бай хочет? Верусенька озябла? Пойдем в каютку, Верусенька?
Она молча поднялась, кутаясь в свой платок.
– Верусенька на нас ни за что не сердится? – спросил Покромцев тем же сладким голосом.
Вера Львовна отрицательно покачала головой. Но перед трапом, ведущим в каюты, она остановилась и сказала:
– Послушай, Володя, тебе ни разу не приходило в голову, что никогда, понимаешь, никогда двое людей не поймут вполне друг друга?.. Какими бы тесными узами они ни были связаны?..
Он чувствовал себя немного виноватым и потому пробормотал со смехом:
– Ну вот, Верунчик, какую философию развела… Разве мы с тобой не понимаем друг друга?
В каюте он скоро заснул тихим сном здорового сытого человека. Его дыхания не было слышно, и лицо приняло детское выражение.
Но Вера Львовна не могла спать. Ей стало душно в тесной каюте, и прикосновение бархатной обивки дивана раздражало кожу ее рук и шеи. Она встала, чтобы опять выйти на палубу.
– Ты куда, мамуся? – спросил Покромцев, разбуженный шелестом ее юбок.
– Лежи, лежи, я сейчас приду. Я еще минутку посижу на палубе, – ответила она, делая ему рукою знак, чтобы он не вставал.
Ей хотелось остаться одной и думать. Присутствие мужа, даже спящего, стесняло ее. Выйдя на палубу, она невольно села на то же самое место, где сидела раньше. Небо стало еще холоднее, а вода потемнела и потеряла свою прозрачность. То и дело легкие тучки, похожие на пушистые комки ваты, набегали на светлый круг луны и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Печальные, низкие и темные берега так же молчаливо бежали мимо парохода.
Вере Львовне было жутко и тоскливо. Она впервые в своей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, – на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми. “Что же я о нем знаю? – шепотом спрашивала себя Вера Львовна, сжимая руками горячий лоб. – Что я знаю о моем муже, об этом человеке, с которым я вместе и ем, и пью, и сплю и с которым всю жизнь должна пройти вместе? Положим, я знаю, что он красив, что он любит свою физическую силу и холит свои мускулы, что он музыкален, что он читает стихи нараспев, знаю даже больше, – знаю его ласковые слова, знаю, как он целуется, знаю пять или шесть его привычек… Ну, а больше? Что же я больше-то знаю о нем? Известно ли мне, какой след оставили в его сердце и уме его прежние увлечения? Могу ли я отгадать у него те моменты, когда человек во время смеха внутренне страдает или когда наружной, лицемерной печалью прикрывает злорадство? Как разобраться во всех этих тонких изворотах чужой мысли, в этом чудовищном вихре чувств и желаний, который постоянно, быстро и неуловимо несется в душе постороннего человека?”
Внезапно она почувствовала такую глубокую внутреннюю тоску, такое щемящее сознание своего вечного одиночества, что ей захотелось плакать. Она вспомнила свою мать, братьев, меньшую сестру. Разве и они не так же чужды ей, как чужд этот красивый брюнет с нежной улыбкой и ласковыми глазами, который называется ее мужем? Разве сможет она когда-нибудь так взглянуть на мир, как они глядят, увидеть то, что они видят, почувствовать, что они чувствуют?..
Около четырех часов утра Покромцев проснулся и был очень удивлен, не видя на противоположном диване своей жены. Он быстро оделся и, позевывая и вздрагивая от утреннего холодка, вышел на палубу.
Солнце еще не всходило, но половина неба уже была залита бледным розовым светом. Прозрачная и спокойная река лежала, точно громадное зеркало в зеленой влажной раме оживших, орошенных лугов. Легкие розовые морщины слегка бороздили ее гладкую поверхность, а пена под пароходными колесами казалась молочно-розовой. На правом берегу молодой березовый лес с его частым строем тонких, прямых, белых стволов был окутан, точно тонкой кисеей, легким покровом тумана. Сизая, тяжелая туча, низко повисшая на востоке, одна только боролась с сияющим торжеством нарядного летнего утра. Но и на ней уже брызнули, точно кровавые потоки, темно-красные штрихи.
Вера Львовна сидела на том же месте, облокотясь руками на решетку и положив на них отяжелевшую голову. Покромцев подошел к ней и, обняв ее, напыщенно продекламировал голосом, разбухшим от здорового сна:
– “Вышла из мрака младая, с перстами пурпурными, Эос…”
Но когда он увидел ее серьезное, заплаканное лицо, он точно поперхнулся последним словом.
– Верусенька, что с тобой? Что такое, моя дорогая?
Но она уже приготовилась к этому вопросу. Она так много передумала за эту ночь, что пришла к единственному разумному и холодному решению: надо жить, как все, надо подчиняться обстоятельствам, надо даже лгать, если нельзя говорить правду.
И она ответила, виновато и растерянно улыбаясь:
– Ничего, мой милый. Просто – у меня бессонница…