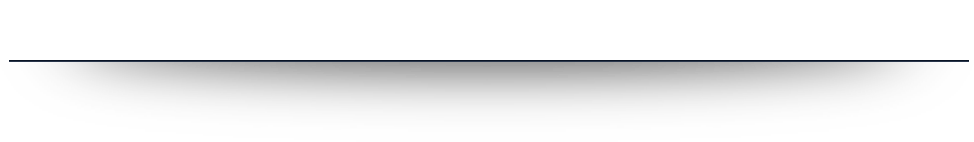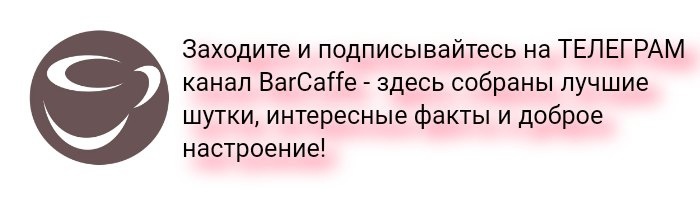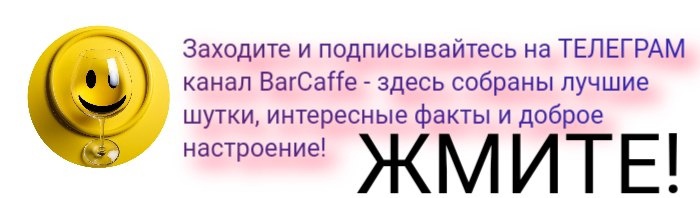Лето Шершиевичи провели в Крыму, прихватив с собой Ольгу Константиновну: Павлу Егоровичу приходилось отлучаться по делам, и он не хотел оставлять жену наедине с её страхами.
У моря Ляля почувствовала себя лучше. Перемена обстановки, новые впечатления и беззаботное курортное общество вкупе с прописанной Савельевым микстурой и морскими купаниями сделали своё дело. Павел Егорович возвращался всякий раз не без тревоги и вздыхал с облегчением, находя жену оживлённой и умиротворённой. Что до Серёжи, то он был ещё слишком мал, чтобы насладиться морским отдыхом: его книжки про свирепых пиратов и отважных мореходов ждали его впереди. Но он был здоров и весел, а большего от него пока и не требовалось.
В последних числах августа зарядили дожди. Несколько дней отдыхающие ждали улучшения погоды, надеясь ещё неделю-другую побаловаться мягким теплом бабьего лета. На третьи сутки дождь и правда перестал, небо расчистилось, выглянуло солнце. Но тепла так и не наступило: холодный ветер крепчал, поднялся шторм и наутро опять заволокло, началась мелкая, как пыль, морось. Старожилы обещали ещё по крайней мере неделю такой непогоды, после которой прежнего тепла уже не жди, и приезжие стали нехотя разъезжаться.
Шершиевичи сняли в Москве небольшой дом в Замоскворечье, удобный и с уютным тихим садом позади, «чтобы Серёже было где гулять», но более ради Елены Васильевны, о чём вслух не говорилось. Дом Ляле понравился, если не считать штор, которые она попросила разрешения заменить. Павел с удовольствием предоставил ей в этом полную свободу, и это оказалось кстати: с новыми занавесками прежняя обивка выглядела слишком пёстрой и аляповатой, за обивкой потянулись ковры и люстры — словом, она с воодушевлением занялась обновлением обстановки. К Рождеству, когда дом полностью преобразился и посреди изящной, изысканной в своей простоте гостиной была водружена и наряжена большая ёлка, Ляля, окинув удовлетворённым взглядом результат своих стараний, вздохнула.
— Жалко, что это всё придётся кому-то оставить!
Павел Егорович, который, со свойственной ему деловой смёткой, предвидел такой поворот, сказал как мог спокойно:
— Если хочешь, можем его купить.
— Дом? Разве он продаётся? — у Ляли заблестели глаза.
— За него просят наличными и всю сумму разом.
— Дорого?
— Недёшево, но нам это по карману.
Ляля прильнула к мужу, заглядывая ему в глаза.
— Мы можем продать наш дом в уезде.
— Пока нет нужды. Так что, мне говорить с домовладельцем?
— Да! — радостно выдохнула Ляля.
На будущий год в Нижнем планировалась грандиозная ярмарка: правительство озаботилось расширеньем хлебной торговли, и Шершиевич положил непременно ехать. Предстояли очень выгодные контракты, кроме того, не помешает и расширение деловых знакомств. Была и ещё одна причина: Павел Егорович хотел вывезти жену развлечься — на этот раз без сына, и он начал осторожные разговоры об этом задолго до отъезда.
Весь последний год, прошедший после Крыма, состояние Ляли не внушало тревоги, если не считать того, что временами она впадала в оцепенение, и тогда лицо её делалось напряжённо-скорбным. Заканчивалось обыкновенно тем, что она на весь день затворялась с сыном в детской, но наутро вела себя как ни в чём не бывало, и Павел Егорович уверял себя, что это был только приступ тоски по дочери. Однако это его беспокоило, сидело в уме безобидной, но докучливой занозой.
— Пётр Игнатьич, — спросил он Савельева, встретившись с ним однажды в городе, — вы наблюдаете Лялю у нас дома. Скажите, пожалуйста, как она вам?
— Вас беспокоит что-то определённое? — Савельев сбоку взглянул на друга.
— Нет-нет, но у меня есть планы, и я хочу знать ваше мнение.
— Если вы собираетесь завести ещё одного ребёнка, то я бы вам это весьма советовал. Ещё один младенец займёт внимание Елены Васильевны, и Бог даст, ей станет некогда терзать себя кошмарами, существующими единственно в её воображении.
— Я имел в виду нечто другое, но вы, пожалуй, правы, — отозвался Шершиевич, подумав.
— Вы не читали мемуаров Эккермана?
— Вы имеете в виду «Gespräche mit Goethe…»[1]? — Шершиевич наморщил лоб, стараясь сообразить, какое отношение этот труд мог иметь к предмету их разговора.
Савельев кивнул.
— Там есть упоминание о том, что юный Гёте страдал нервным расстройством — чрезвычайной боязнью громких звуков. Так вот он, если помните, нарочно ходил на плац, где муштровали солдат под барабанный бой… Я бы назвал это мозолью, которую набивает на нервах сильный раздражитель, делая их нечувствительными в известном отношении.
— Занятно, — Шершиевич усмехнулся. — Но я хотел говорить с вами о другом. Я скоро еду в Нижний, на ярмарку, и хочу взять Лялю с собой. Без Серёжи, — добавил он, остановился и поглядел прямо на Савельева. Тот встретил его взгляд, но надолго замолчал. Наконец, вздохнув, сказал.
— Мне бы хотелось вас успокоить, но… Видите ли, явных признаков прежнего расстройства я не вижу, однако мне кажется, что Елена Васильевна очень хорошо владеет собой. Вы говорили ей о своих планах?
— Она отвечает уклончиво: с кем останется Серёжа и почему мы не можем взять его с собой.
— Что ж… Если хотите, я попробую её уговорить.
— Был бы вам очень признателен.
[1] Иоганн Петер Эккерман, «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни, 1823—32».
В. К. Стебницкий
***