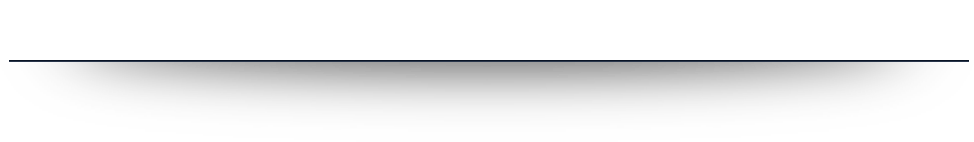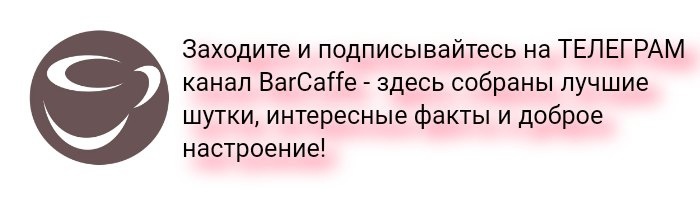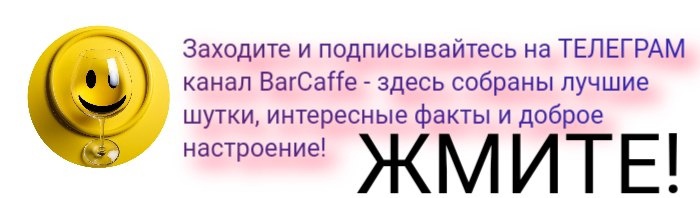Ляля и сама не верила, что у неё достанет терпения и сил выучиться и после пойти служить в клинику — по-настоящему, за жалованье. Она не заглядывала так далеко и решилась на этот шаг во многом от безысходности, понимая, что раз нет надёжного лекарства от её недуга, то всё, что ей остаётся, это не иметь досуга, чтобы демону, ежечасно терзающему её душу, не удалось завладеть её рассудком.
В числе прочего она читала много книг по нервным болезням и психиатрии: ей хотелось как можно лучше изучить своего врага, заглянуть ему в глаза, не дать сомкнуться порочному кругу, откуда уже не будет возврата. Однажды, лёжа без сна, она вдруг увидела так ясно, как если бы всё осветила молния, что ставший её неразлучным спутником всегдашний ужас — это уже не только страх чего-то неизвестного, но ещё и страх самого страха, и опасение бояться этого страха, и так бесконечно, словно она стоит меж двух зеркал, отражения которых друг в друге образуют нескончаемую галерею — именно потому нескончаемую, что она замыкается здесь, на ней самой. Эта внезапная вспышка помогла ей понять, что необходимо выйти из своей воображаемой галереи, что все её ужасы не более чем многократные отражения её же собственного воспалённого сознания, а на самом деле нет никаких бесконечных коридоров, а есть только два куска стекла, покрытых серебряной амальгамой, и если шагнуть в сторону, то увидишь обычную жизнь, совершенно не страшную. Понимание этого не уничтожило снедающего её ужаса, но сделало его понятным и объяснимым.
В клинике она не брезговала никакой работой, а если попадался какой-нибудь особенно трудный больной, то не находила себе места, пока не узнает всё о его недуге и не испробует все известные способы лечения. Благодаря этому упорству, помноженному на обострённую чувствительность, она часто каким-то почти сверхъестественным или животным чутьём находила средства, которые не были упомянуты ни в одном известном ей пособии, и пользовала ими иногда в обход предписаниям врача. Савельев узнавал об этом post factum и мягко журил свою протеже и помощницу:
— Елена Васильевна, хорошо то, что хорошо кончается, а если вдруг больной умрёт? Вы слишком рискуете, я уже не говорю, что в конце концов это я несу ответственность за пациентов. Случись что, нам обоим не поздоровится!
— Пётр Игнатьич, миленький, не сердитесь! Можете мне не верить, но я всегда чувствую, что может навредить больному, и никогда ничего такого не сделаю!
Уже год спустя за Еленой Васильевной закрепилась репутация человека, ставящего на ноги даже безнадёжных, да и у самого Савельева стало привычкой направлять её к самым сложным пациентам, нуждавшимся не просто в бдительной и опытной сиделке, но в человеке с развитой врачебной интуицией.
— Прости, Павел, если я злоупотребляю твоей женой более, чем это позволительно другу, но она и в самом деле часто незаменима. Я много чего повидал на своём веку, и Елена Васильевна единственный человек, кому ещё удаётся меня удивлять, причём это случается едва не при каждом случае, с которым нам приходится иметь дело, — говорил он Шершиевичу в один из редких свободных вечеров, своих и Ляли. Оба были дома, то есть Ляля была дома, а Савельев у неё в гостях.
— Бог простит, — усмехнулся Павел Егорович. — Я бы, конечно, был рад видеть её дома почаще, но если по-другому невозможно сделать её хоть сколько-то спокойной, то пускай уж лучше будет занята чужими болезнями, чем собственными кошмарами.
Они были в столовой одни — хозяйка, извинившись, пошла укладывать сына. Её беспокоила вина перед домашними, и в те немногие часы, когда она оставалась дома, Ляля старалась как могла обогреть сына и мужа. Она взяла за правило читать Серёже книжку перед сном, и мальчик с нетерпением ждал этой минуты, капризничал и дулся, если она задерживалась в клинике или у частных больных. Тогда Ляля принималась рассказывать ему о своей работе, и Серёжа невольно увлекался её рассказом. Она старалась быть особенно ласкова и с мужем, хотя это давалось ей непросто — с наступлением сумерек паника нарастала и к ночи делалась почти непереносимой. Но тем крепче Ляля прижималась к мужу, и Павел чувствовал, что он ей необходим. Сознание своей нужности, обострённое горечью по поводу причин Лялиной беспомощности, доставляло ему мучительное наслаждение. Жена казалась ему одинокой свечой, горящей в непроглядном, плотном, почти осязаемом мраке её ужаса, и он был полон решимости сделать всё возможное, чтобы не дать ей погаснуть.
Иногда приезжала Ольга Константиновна (после холеры Ляля ни разу не бывала в Алпатьеве). Обычно мать подгадывала к Рождеству и оставалась до первых оттепелей, стараясь воротиться по санному пути. Почти всё время она проводила с внуком: ездила с ним кататься с горки на санках, возила в цирк и на каток, устраивала праздники для его маленьких приятелей. И всякий раз, уезжая, звала летом в деревню. Ляля обещала подумать, но откладывала решение неделю за неделей, несмотря даже на настойчивые уверения Савельева, что он прекрасно обойдётся без неё недели две-три, а ей необходимо отдохнуть. Раз или два они все вместе ездили в Крым или на Кавказ, но родное Алпатьево оставалось для Ляли местом едва ли не проклятым, и сама мысль вернуться туда, где она уже потеряла одного ребёнка, была непереносима.
В тот год, когда Серёже пришла пора идти в гимназию, Ольга Константиновна особенно настойчиво зазывала внука к себе — перед началом школьных занятий погулять на свежем деревенском воздухе, попить парного молока и побегать с мальчишками по лугам и лесам — но он так и не приехал. Уже ударили первые заморозки и утром на траве и камнях мостовой лежал иней, когда почтальон принёс Шершиевичам телеграмму: Ольга Константиновна слегла.
Они как раз завтракали — Павел Егорович собирался на биржу, а Ляля только вернулась с ночного дежурства. Прочитав телеграмму, она передала её мужу со словами:
— Надо ехать.
Он поднял на жену глаза, глядя настороженно-ласково.
— Позвонить Савельеву?
— Я сама. Когда ближайший поезд?
— Что-то около полудня. Ещё успеешь поспать.
— Посплю в дороге.
Но в поезде, куда она села одна, настояв, чтобы Павел остался с сыном, Ляля так и не сомкнула глаз. Глядя в окно на пейзаж, который словно бы вращался на гигантском диске с осью у самого горизонта, она вспоминала своё возвращение из Москвы после разрыва с Яворским, и ей казалось, что это было очень-очень давно, в прошлой жизни, может быть, даже не с ней… «Бедная мама! Как я к ней была несправедлива… А теперь она больна и, может быть, умирает. Господи, господи, господи, только бы застать её в живых!..»
В. К. Стебницкий
***