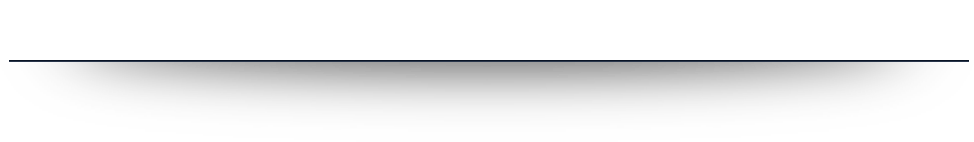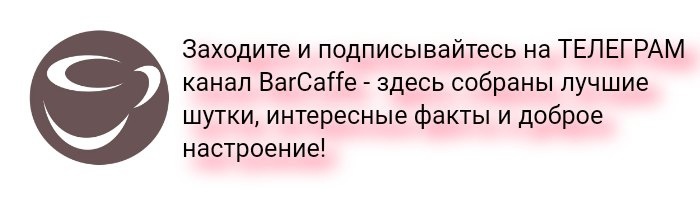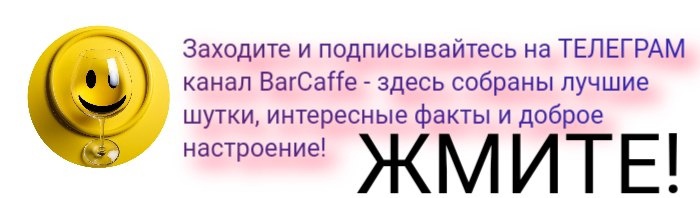Оправив издателю «Свирского», Ляля испытала полное удовлетворение, как если бы исполнила трудный, но необходимый долг. Некоторое время она простодушно упивалась внезапным успехом своего детища, а сознание тайны её авторства сообщало этому упоению сладость запретного плода.
Постепенно мысль о нём делалась для неё привычной, но, когда издатель прислал ей свёрстанную книгу, она читала гранки так, словно видела запечатлённое на них впервые. Книга ушла в печать, и скоро её тираж появился в книжных лавках. В гостиных исчерпали уже все мыслимые догадки относительно личности автора и теперь принялись строить предположения по поводу его будущих книг.
Вернувшись с одного из таких вечеров, на которых обсуждались литературные и театральные новости, Ляля вдруг ощутила сосущее чувство, словно она забыла что-то очень важное. Она пролистала свои медицинские записи и назначения Савельева, но не обнаружила там ни единого упущения. Однако это её не убедило, и она продолжала ходить из комнаты в комнату, рассеянно вынимая из волос шпильки и держа в руке забытую гребёнку, и невидящими глазами обшаривала хорошо знакомые предметы, пытаясь понять, что же так её беспокоит. Не дождавшись её в постели, Павел Егорович отправился на поиски жены и нашёл в сидящей в глубоком кресле в тёмном кабинете.
— Леночка, — позвал он от двери и скорее почувствовал, чем услышал лёгкое движение за спинкой развёрнутого в окно кресла.
— Да, я здесь, — отозвалась она.
Шершиевич медленно приблизился и в слабом уличном свете увидел лицо жены: она смотрела в окно единственно потому, что надо же было на что-то смотреть, а окно было самым светлым пятном в комнате.
В постели, куда он увёл её из кабинета, она долго ворочалась и вздыхала, но уверяла, что её ничего не беспокоит, просто бессонница. Позвонили, Наташа принесла капель, выпив которые Ляля затихла, но Павел Егорович слишком знал цену этой тишине и по опыту мало ей доверял. Он не помнил, как заснул, а проснувшись уже засветло, увидел её одетой и бодрой, словно она и не ложилась.
— Проснулся? — её губы улыбнулись, но глаза глядели твёрдо, как если бы она приняла какое-то решение. — Мне пора в госпиталь, Пётр Игнатьич выписывает Ноговицына и хочет передать его мне.
Но Шершиевич каким-то ему одному ведомым чутьём понимал, что дело тут не в Ноговицыне, знаменитом профессоре и учёном, которому провели сложную операцию, вернув его почти с того света.
Была суббота, и никаких особых дел у Шершиевича не было. Он не признался бы в этом и самому себе, но он любил такие тихие субботы, когда оставался совершенно один. Сын учился в Петербурге, наезжая только на каникулы, Ляля обыкновенно отправлялась к своим больным, и он, неспешно позавтракав в халате, читал, курил трубку, слонялся по комнатам, в хорошую погоду гулял в саду. Мысли его свободно блуждали вслед за ним, как если бы он слушал разговор случайных попутчиков, не настолько занимательный, чтобы в него вмешаться.
Рано или поздно (он знал и боялся этого) мысли неизбежно возвращались к неустранимому предмету его тревоги — к жене. Последние несколько лет она казалась вполне спокойной, но это было спокойствие приговорённого, казнь которого откладывалась уже так давно, что он успел с нею смириться и потому живёт теперь каждый день как последний, со всегдашней готовностью уйти.
Вот и сегодня Павел Егорович испытал так хорошо знакомое тревожное чувство и, усмехнувшись, подумал, что он уже и сам перестал быть вполне здоровым в отношении нервов человеком. Мысли о Ляле были отравлены горечью, которая давно сделалась привычной. Почему, думал Шершиевич, именно ей, которую он так неизбывно любит, выпало на долю пережить всё так, как переживала она. Ведь Ляля была не единственной, кто потерял ребёнка, да что там ребёнка — нескольких младенцев: взять хоть Ольгу Константиновну, схоронившую, кажется, двоих прежде Лялиного рождения! Случалось ему слышать и о женщинах, от горя лишившихся рассудка. Но только его жена смогла обратить свою беду во благо, если не себе, то другим людям, и продолжает делать это по сей день. И это не смирение, понимал Шершиевич, напротив: Ляля вся была воплощённый вызов — своим утратам и своему недугу. Вот и сегодня — он догадался по её непроницаемым глазам, застывшей маске лица, решительным скупым движениям — Ляля опять окопалась на своём последнем рубеже…
Предавшись этим неотвязчивым мыслям, после обеда он заснул на диване в кабинете, а когда проснулся, стояли уж сумерки и на столе была зажжена лампа под абажуром. Он обернулся на свет и увидел жену, которая сосредоточенно что-то писала за столом. Рядом лежала новая стопка писчей бумаги. Ляля иногда отрывалась от листа и знакомым ему жестом прикусывала кончик пера, обдумывая следующую фразу. Глаза её блуждали и блестели в свете лампы — очевидно, то, что она переносила на бумагу, очень занимало её самоё. Выглядела она при этом вполне обыкновенно, но у Шершиевича отчего-то похолодели и сделались влажными руки, словно он увидал призрак.
Наверное, он вздрогнул, потому что в следующее мгновение Ляля заметила, что он проснулся. Она смотрела на него из своего далека, в котором только что витала, и глаза её улыбались, медленно возвращаясь к действительности.
— Паша…
— Что ты пишешь? — спросил он непослушными со сна губами.
Она смешалась, опустила глаза, словно перечитывала написанное, и, не глядя на него, оперлась подбородком на свободную руку.
— Я подумала: если написать о том, что было… со мной. Может быть, тогда всё это закончится?
И она робко подняла к нему глаза, в которых отчаяние боролось с вызовом.
В. К. Стебницкий
***