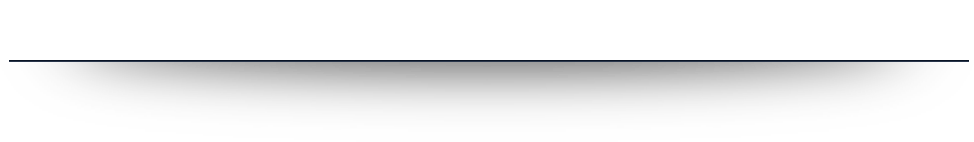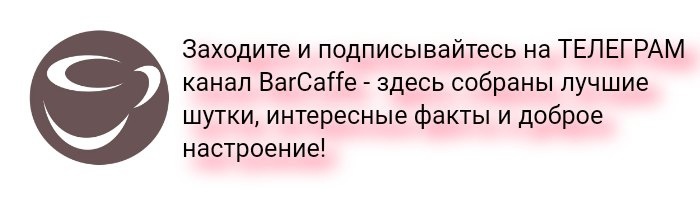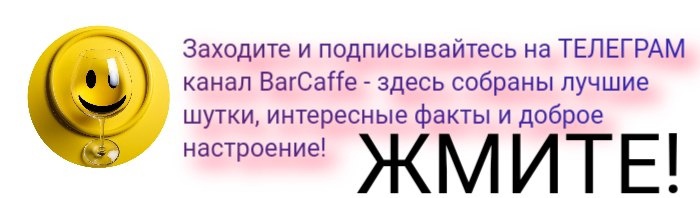Сначала это была просто биография, история жизни литератора и человека. Но постепенно, как скелет мышцами, она обрастала подробностями, наполнялась кровью, и настал день, когда Ляля, неожиданно для самой себя, увидела, что её герой зажил самостоятельной, отдельной от неё жизнью. Недоверчиво перечитав написанное, она обнаружила, что ей удалось вдохнуть душу в своё творение, и теперь оно само диктует ей, чтό следует писать…
Это не был даже собственно Яворский — во всяком случае, не вполне тот Яворский, каким она его знала — а какой-то новый характер, полнокровный и живой, осенённый приязнью своего создателя. Написанный без фальшивого блеска, без натужного драматизма, но с лёгкой и немного грустной иронией — как если бы Господь, сотворив Адама, провидел весь его грешный путь и смиренно, с доброй усмешкой отпускал в мир.
Несмотря на долгие часы, проведённые ею у постели умирающего, Ляле не хватало многих подробностей его жизни, которые он просто не успел — или ему недостало сил — ей поведать. Размышляя над этими пробелами, она спрашивала себя: что и как бы мог сделать человек, которого она теперь узнала? Как стал бы он поступать, что стал бы чувствовать? И так как её мысль пока не отваживалась ступить далее окончания этой взятой на себя епитимии, она заполняла недостающие части повести плодами своих раздумий, как дети домысливают в собственных фантазиях услышанные или прочитанные истории. Сделав это однажды, она не решилась более называть его как прежде и дала ему новое имя: Аркадий Иванович Свирский.
И настал день, когда она поняла, что не в силах прибавить к написанному более ни слова. Перечитав рукопись, изрядной стопкой лежащую перед ней на столе, Ляля поняла, что это книга, и растерялась: что дальше? Вернувшийся к ужину Шершиевич, спросив прислугу, дома ли хозяйка, прошёл прямо в кабинет, где заставал жену все последние месяцы, если только у неё не было срочных больных, и увидел её сидящей над аккуратной толстой кипой исписанных листов. Она обернулась на его тихие шаги, и он понял, что она стерегла его возвращение. Ляля смотрела, как он остановился в дверях, как медленно приближается к ней, и молчала. И только когда он, коснувшись губами её пылающей щеки, опустился в кресло напротив, заговорила.
— Паша, я хочу, чтобы ты это прочитал.
— Конечно, родная, — ответил он, поглядев на жену с привычной заботой. — Ты здорова?
— Ах, полно! Ты же знаешь, что я не могу быть здорова… Впрочем, не более, чем всегда. Не будем об этом! Но знаешь, Паша, я, кажется, написала книгу. Впрочем, это может быть чепуха, дамские бредни. Словом, я хочу, чтобы ты прочитал и сказал мне, что ты думаешь.
Весь этот вечер Павел Егорович провёл за чтением рукописи.
Не без трепета снял он со стопки верхний лист, опасаясь и вместе надеясь (ради душевного спокойствия жены) прочесть что-то вполне в будуарном духе, каковое чтение то и дело попадалось теперь в новых журналах; но, бегло пробежав страницу-другую, вернулся к началу и больше не мог оторваться. Повествование было написано упругим, уверенным слогом, лёгким и вместе полновесным. Из него как живой выходил человек, о котором он прежде знал только то, что тот когда-то разбил Лялино сердце…
Было уже за полночь, когда Ляля окликнула мужа.
— Поздно уже, Паша! Пойдём спать.
Она ни о чём не спрашивала, а он не говорил, только с интересом посмотрел на неё, как на постороннюю.
— Что? — по обыкновению спросила Ляля.
Шершиевич вздохнул, как вздыхает человек, очнувшийся от глубокой задумчивости. Постепенно лицо его разгладилось, и на него вернулась обычная улыбка. Посмотрев на часы, он сказал
— Да, пойдём, пожалуй. Завтра много дел!
И весь следующий день, занимаясь этими делами, он неотрывно думал о прочитанном накануне вечером. Оно озадачило его. Памятуя о давнишних литературных опытах жены — тех самых рецензиях, которые некогда показывала ему Ольга Константиновна — Павел Егорович ожидал увидеть что-то в том же духе: добротную, хорошим слогом написанную биографию литератора. Но то, чем оказался этот многонедельный Лялин труд, было нечто совсем другое. Это был роман, и роман отнюдь не дамский. Он ловил себя на удивлении — и удивлялся тому, что удивляется: его жена, с которой он прожил бок о бок четверть века, зачал и похоронил дочь и вырастил сына; женщина, которую он знал как себя, до последних подробностей, до самых незначительных вседневных привычек и жестов — эта самая его Леночка, Ляля — написала книгу. И не просто: книгу, а вещь, о которой, не будь он свидетелем её трудов, ни за что не поверил бы, что её написала женщина — дама! Как и большинство мужей, Павел Егорович смотрел на жену будничным, обыденным взглядом, и едва ли не единственным, что придавало ей в его глазах некоторую особость, был её недуг, висевший на тонком волоске над их семейным счастьем.
Назавтра вечером, уже в постели, он закончил чтение и, подняв глаза, долго смотрел на Лялю, прижимая палец к губам, как обычно это делал в затруднении. Ляля в это время расчёсывала на ночь свои густые тёмные волосы с нитями седины, и только асимметрично вскинутая бровь выдавала напряжение ожидания на её красивом лице. Почувствовав на себе его взгляд, она обернулась, высоко держа над головой руки с гребёнкой, которые тут же уронила на колени, отчего вся копна волос рассыпалась по её плечам. Словно ему недоставало только этого знака, Павел Егорович отнял палец от губ.
— Это надо печатать!
Ляля помолчала, глядя на него пристально и с недоверием.
— Правда?
— Да, — кивнул он, — я говорю это не потому, что муж, и не затем, чтобы сделать тебе удовольствие, но оттого, что думаю так на самом деле. Это необходимо издать! Ты ведь об этом уже думала?
Ляля уставилась в тёмный угол спальни и, отвечая не столько мужу, сколько своим мыслям, произнесла:
— Но я же не могу печататься под своим именем. К чему нам лишние пересуды? Знаешь, Паша, я решила — если ты не будешь против, конечно! — взять себе имя главного героя: Свирский. Сделаю предисловие, что, дескать, это жизнеописание принадлежит перу самого Аркадия Свирского.
В. К. Стебницкий
***