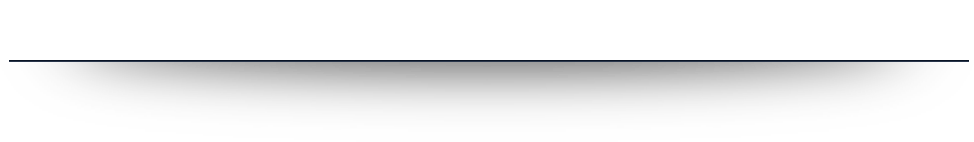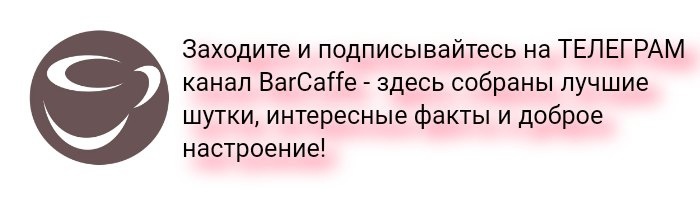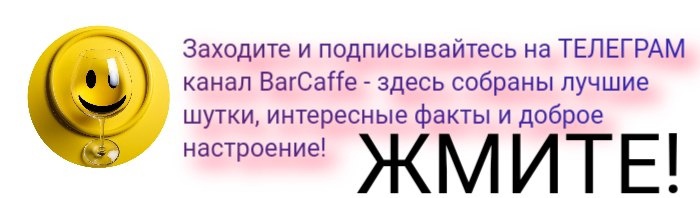Скандальный случай, имевший место на вечере у Сиротина, получил широкую огласку благодаря некоему борзописцу из числа приглашённых. Сей последний продал историю редактору одной из вечерних газет, которые существуют главным образом за счёт слухов и скандалов в высшем обществе. Автор сообщения пожелал остаться неизвестным, прикрывшись безликой подписью «ваш корреспондент», но живописал историю весьма красочно, добавив от себя несколько личных соображений относительно персоны загадочного Свирского.
Первым следствием этой заметки стал визит издателя к Шершиевичу: прочитав о происшествии за вечерним чаем, издатель ощутил знакомый запах денег, о которых Веспасиан поторопился сказать, что они не пахнут. Будучи лицом заинтересованным, издатель сразу понял, что поднявшийся вокруг Свирского шум позволит продать как минимум вдвое больший тираж, нежели тот, который и теперь неплохо, но умеренно расходился у книготорговцев. Но для этого требовалось заручиться согласием автора и, в случае удачи переговоров, раскрыть его инкогнито. Если им не был сам господин Шершиевич, то вариантов оставалось немного, так как под одной с ним крышей — издатель навёл справки — проживала только супруга и сын, который бывал наездами. Обе присланные ему рукописи были сделаны женской рукой, но это ничего не значило: m-me Шершиевич могла исполнить роль секретаря при муже или сыне, чему есть много примеров в нашей словесности, как и инициалы Е.В., ей принадлежавшие, могли скрывать любого из троих.
Павел Егорович принял редактора, но наотрез отказался предавать огласке имя настоящего автора, однако это уже ничего не могло изменить. В московских гостиных только и было разговору, что об этом происшествии, и так как сами Шершиевичи вежливо отклоняли все приглашения, то единственное, что оставалось поклонникам Свирского, это выбирать между трёх домочадцев: самим Павлом Егоровичем, Еленой Васильевной или их сыном, который заканчивал курс в морском корпусе в Петербурге. Споры шли весь остаток дачного сезона и с его окончанием переместились в городские дома. Книги перечитывались с пристрастием, всяк старался найти в них черты, указывающие на руку творца, и общество склонялось поочерёдно к каждому из троих Шершиевичей.
Елена Васильевна затворилась дома, никого не принимала и не отвечала на письма. Павел Егорович ездил по делам своей торговли: наступила жатва, и это требовало его присутствия в хлебных губерниях. Поэтому скучающим дачникам приходилось искать пищу для своих пересудов собственными силами. Однажды, перебирая лиц, бывших с Шершиевичами накоротке, вспомнили баронессу Фихтер, но та отбыла с супругом на Ривьеру. Впрочем, неделю спустя Наталья Самсоновна стала получать от московских приятелей письма, из которых и узнала о происшествии. «Бедная моя Ляля!» — вздохнула она и на вопросы своих корреспондентов отписалась, что автор ей действительно известен, но так как речь идёт о лицах, в коих она принимает горячее участие, то не станет лишать их остатков покоя, раскрывая то, что они пожелали содержать в тайне.
По иронии судьбы неудачливый виновник всех этих событий, третьеразрядный пиит Сомов менее всех пострадал от поднятой им бури, пересидев её в Крыму, куда отбыл сразу после приснопамятного вечера. Человек жалкий и завистливый, единственное дитя боготворившей его матери, он с юности пописывал стихи и мечтал о славе, каковые мечты делила с ним его рано овдовевшая родительница. Она неутомимо пристраивала в журналы первые поэтические опыты своего чада, добивалась приёма у критиков, искусной лестью склоняя их к написанию благожелательных рецензий. Раз или два ей это удалось, и после её кончины редакторы, привыкнув, заполняли стихами Евгения Сомова недостающие до нужного объёма страницы.
Но вскормленный на материнском тщеславии Сомов не мог удовольствоваться этими крохами, а его нежного ангела маменьки уже не было с ним. Однажды, размышляя о горькой судьбе непризнанного гения, он листал журнал со своими стихами и наткнулся на фамилию Свирского. «А не приняться ли мне за прозу?» — подумал Сомов и начал читать с целью выяснить, что теперь нравится публике: сочинение Свирского наделало много шуму. Однако чтение его увлекло, и он даже подумал, что хорошо бы он сам написал нечто подобное. Подумав об этом однажды, наш незадачливый честолюбец уже не мог отделаться от этой мысли. Он было сел за короткий рассказ, но из этого ничего не вышло — так, чепуха какая-то, это было очевидно и ему самому. Сомов быстро сообразил, что для такого рода книги необходим постоянный усидчивый труд, к каковому он не был готов, привыкнув к той лёгкости, с которой ему давались его изящные безделки. Но он уже не мог перестать мечтать о славе и, просиживая над очередной главой Свирского, обратил внимание на полное совпадение их инициалов: Е. В. Свирский — Е. В. Сомов. Это показалось ему знаком судьбы.
Из рецензий и салонных разговоров он знал, что личность автора для всех остаётся загадкой, не исключая и самого издателя. Когда было объявлено о второй книге, среди публики заговорили о возможном раскрытии этой интриги. Высказывалось мнение, что окружающая автора таинственность не более чем ловкий трюк, имевший целью привлечь внимание к его творению. Но вышел второй роман, а автор продолжал скрываться в тени, и, выждав время, Сомов заключил, что у того, вероятно, имеются для этого веские причины. А коли так, то отчего же не рискнуть и не воспользоваться таким положением? Надеясь договориться полюбовно, буде к нему возникнут претензии, Сомов продумал также и то, как следует вести себя в случае возможной тяжбы, но присутствия самого автора на том самом приёме, где он собирался представиться Свирским, не предусмотрел. Чем это закончилось для него, читателю уже известно: он сбежал в Крым и, будучи персоной слишком незначительной, благополучно пересидел свой позор, а после того, как всё стихло, перебрался в Одессу, где и водворился в качестве честного обывателя.
Гораздо хуже пришлось Шершиевичам. Когда неугомонные поклонники Свирского добрались и до Савельева, тот не мешкая приехал к своим друзьям и нашёл Елену Васильевну в полном расстройстве: старый недуг вернулся, и казалось, за то время, что он не давал о себе знать, только набрал сил.
— Когда это началось? Отчего не позвали меня сразу? — обратился Савельев к расстроенному Павлу Егоровичу.
— Леночка не велела беспокоить вас по пустякам, — ответил тот.
— Хороши пустяки! — буркнул Савельев, осматривая свою пациентку и коллегу. — Елена Васильевна, дружочек, вы же знаете, что так нельзя! Чем раньше начать, тем проще купировать приступ…
Лялю принялись энергично лечить, но все эти меры, увы, запоздали: болезнь прогрессировала. К тому же участились сердечные припадки у самого Шершиевича.
Прошёл, наверное, месяц, когда Ляля почувствовала некоторое облегчение. Зная ему цену, она, однако, проводила мужа в поездку, которой настоятельно требовали его дела. Вернувшись несколько времени спустя, Павел Егорович жены не застал. В кабинете на столе его ожидало письмо:
«Милый мой Паша! Пишу тебе, пока ещё я в твёрдом рассудке и зная, что это продлится недолго. Дальше будет только хуже. Я вижу, что я тебя медленно убиваю, и это мучает меня непереносимо. Поэтому я приняла решение, что нам необходимо жить раздельно. Я сняла квартиру неподалёку и забрала с собой Наташу, так что тебе придётся озаботиться поиском новой прислуги. Умоляю только об одном: не пытайся меня вернуть, под одной крышей я сведу тебя в могилу, а это окончательно сведёт меня с ума.
Главное — сохранить нашу любовь. Не дожить до ненависти и отчаяния, а это неизбежно произойдёт, если мы останемся вместе. Это решение далось мне тяжело, и я смогла сделать то, что сделала, только потому что постоянно твердила: главное — сохранить любовь!
Моё содержание не будет стоить тебе слишком дорого, на днях к тебе придёт господин Возицын, которому я поручила вести мои дела. Всё, что я делаю, это единственно ради моей любви к тебе, которая, вероятно, переживёт и мой рассудок. Прощаюсь с тобой светло. Твоя Ляля».
В. К. Стебницкий
***